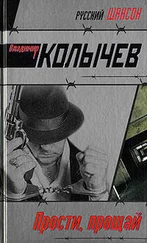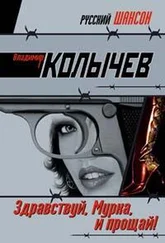Дней за десять — двенадцать до вызова к Коле мы бежали на урок физкультуры: в майках, в трусиках, с четвертого этажа на второй, там был зал. Впереди несся я, а за мною — Шурка Рутицкий, неуклюжий, тщедушный. По пути, на лестничной площадке, красовался плакат: тороватая молодайка колхозница, широко улыбаясь, обняла здоровенный сноп, а на дальнем плане — колонны пыхтящих тракторов. Дело шло к 8 Марта, и колхозницу прислали в школу по какой-нибудь разнарядке. Вероятно, поутру колхозницу пришпилили наспех: кнопки, на которых держался плакат, выпали из стены, и молодка висела криво, того и гляди упадет.
— Слушай, Шурка, — остановился я, — давай-ка плакат поправим. Помоги мне!
Шурка, шлепая несоразмерно большими, на вырост, тапочками, переминался с ноги на ногу уже рядом со мной. Я поднял упавшие кнопки, попытался вонзить их в стену, но жала кнопок загнулись, из стены и последняя выпала, и колхозница плюхнулась на пол. Верещал звонок. Я свернул плакат в трубку, аккуратно поставил в угол.
— Ладно, пусть пока постоит. А будем идти с физкультуры, разживемся кнопками и повесим плакат как надо.
Шурка:
— Ладно.
Мы прилежно физкультурили: прыгали, карабкались на шведскую стенку; а когда мы, возвращаясь, поднимались обратно, поселянка-колхозница, уже прочно пришпиленная, возвышалась на прежнем месте: обошлось и без нас. Это было 6 марта. А потом, примерно 15-го: очень строгая дама-завуч ведет меня к Коле. И — темная келья: за столом комсорг Коля, перед ним, на краешке стула… Рутицкий. Я здороваюсь с Колей, а он мне — угрюмо, отрывисто:
— Тут Рутицкий утверждает… Он сигнализировал, значит, что ты в школе плакаты срывал. Перед праздником. Было дело?
Повторяю: мне десять лет. И Рутицкому десять! И Рутицкий красен, а под очками глаза. Белые какие-то глаза. Неподвижны. Застыли: глаза начинающего подлюги, стукача-добровольца.
— Бы-ло де-ло? — комсорг. Почти так же, как полвека спустя: «Та-а-к, а где у вас финский нож?»
Подсоберу когда-нибудь материала и труд небольшой напишу о поэтике политического доноса, ибо знаю, что и тут поэтика есть. Например, донос требует превращения единичного во множественное, и ему показано только мно-жест-вен-но-е число. По законам этой поэтики полуупавший плакат превратился в «плакаты», а затем уж и мое благонравное усердие — в буйство политического феминофоба, слоняющегося по школе и крушащего один плакат за другим. Шурка создал об-раз вра-га. Не сказал бы, что творение его было мечено печатью таланта. Стереотип принципиально бездарен, Шурка действовал по шаблону. Почему? Я не знаю. Да, он был неудачником, над которым с беспардонной мальчишечьей жестокостью в классе зло потешались, хотя я-то как раз за него заступаться порою пытался. Не за это ли он мне и мстил? Было тут не от Достоевского что-то, а от Леонида Андреева скорее: извращение, не гонителям напакостить, а, напротив, простаку-покровителю. Или просто в моем лице мстил он всем? Человечеству, роду людскому? Ох, не знаю: не Достоевский я, и даже до Леонида Андреева мне, видать, далеко.
— Нет, — отрезал я, — было не так!
И откуда твердость взялась? Рассказал я о плакате, о кнопках. О том, как мы вместе свернули плакат в аккуратный рулон и хотел я… Коля даже и не дослушал. Перед ним лежал номер «Правды» с передовицей, целью которой было как-то утихомирить охватившую массы, истерику; террор никогда не бывал монотонным, он знавал и своеобразные контрапункты: то крушить, то одергивать сокрушающих, щеголяя даже и неопределенными либеральными фразами. И мое поколение помнит: в десятых числах марта 1938 года «Правда» вдруг заговорила о клеветниках, о компрометации кадров.
Коля поглядел на исчерканную красными карандашными пометками газетную полосу, перевел мрачный взор на юного пионера-доносчика, громыхнул:
— Понимаешь, Рутицкий? Твой товарищ хотел нашей школе помочь, устранить недостаток, а ты… Кто же ты теперь, Александр Рутицкий, выходишь, а? Получается, что ты кле-вет-ник! Ты тут что же задумал, кадры компрометировать? Подрывать единство наше задумал, а? Так тебе, Рутицкий, не удастся посеять рознь в наших сплоченных рядах. Не у-даст-ся! Не выйдет из этого дела у тебя ни-че-го!
Как докладчик, который, произнося громкую гневливую речь, все же сверяется с заранее заготовленным текстом, Коля грозно глядел на Рутицкого, но поглядывал и в газету. Коля крыл Рутицкого массивными штампами, и это было самым мудрым выходом из критической ситуации. Дальше было о том, что весь дружный коллектив нашей славной 238-й школы, руководимый большевиками «Станколита», сплоченными рядами устремится в светлое будущее и при этом — Коля снова бросил взгляд на газету — с презрением отвернется от пытающихся подорвать наше нерушимое единство Рутицких и иже с ними. Коля явно переживал порыв вдохновения, а Рутицкий ерзал на стуле, краснея, бледнея. Я же… Много-много передовиц довелось мне прочесть впоследствии, но никогда сплошь составленный из трафаретов их слог не звучал для меня такою божественной музыкой, как тогда, в хмурых мартовских сумерках.
Читать дальше