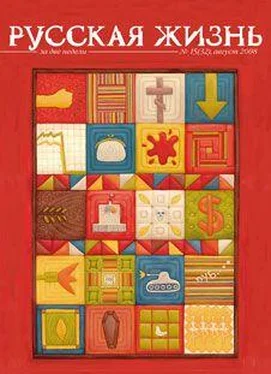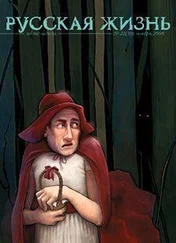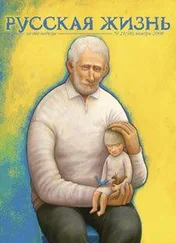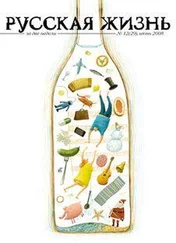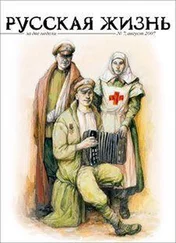Попытки утрясти отношения гостиной с курной избой всегда были односторонними и всегда - самоубийственными. Изба брататься не желала, а редких подвижников - докторов да народных помещиков вроде Левина - осваивала и тупила; о том чеховский «Ионыч». Лев Толстой, как многим помнится, «любил подолгу говорить перед крестьянами о гуманизме и гражданственности. Крестьяне его очень любили за это, брали деньги в долг и называли Левой». Дворник Маркел то и дело встревал внутрь семейной барской фотографии, чтобы пробурчать на ходу нечто бессвязно-пророческое типа: «Не может сом с уклейкой жить». Он же, некогда олицетворявший для верхних этажей подмандатный народ, станет и душеприказчиком опростившегося и сломавшегося Юрия: не ищи, мол, в черни правды и глубин, довольствуйся дворником.
И вот Прошкин, все дальше вынужденно дрейфуя от нив и сараек, длинных врытых в землю столов и неказистых мужичонок в бабьем царстве, снова снял кино о таком чужом среди таких своих, но будто в пику - не о городском-ученом-испорченном, а о самом что ни на есть местном, после честной и справной службы взявшемся отлынивать от народного ратного дела. И сразу давняя распутинская история кругом неправого отшельника вдруг обнажила и нарочитость диковатого говора, и тоскливые нравы крестьянской дыры, и фатальную несвоевременность постановки. Война, бывшая последним связующим звеном столь редко рассеянного по тундрам и суглинкам народа, что его даже чума не взяла, сегодня отмирает именно в качестве клея «Суперцемент»; той мертвой воды, что сращивала огрызки плоти перед опрыскиваньем живою. Входящим во взрослую жизнь поколениям участники войны стали прадедами, а это уже четвертая, дальняя, архивная степень родства. Вникать в маету и вину изменившего допотопной общине изгоя - слишком неподъемная задача для сугубо столичного, чуждого укладом зрителя. Переход с неловкой пушкинско-пастернаковской прозы поэтов на спорую распутинскую (ее еще, желая укусить, зовут «добротной») как будто конституирует происходящую ныне первую русскую демократизацию, разгосударствление, возвращение голоса миру трудодней, огородов и семечек, выбившее из-под прошкинского кино почву. Сбывшийся мелкокулацкий рай впервые в русской истории даровал образованщине право на снобизм, на дистанцию, на отход в сторону - чуя непоправимое, народник Прошкин впервые глаголет голосом пейзанской Атлантиды и честной попыткой лишь расширяет пропасть. Все эти убедительно произнесенные дочерьми столбовых кинематографических фамилий Мороз и Михалковой «чо», «карасин», «не сумлевайся», «отскочь не морочь, я тя не знаю» откровенно режут слух. Культивируемый двадцатым веком долг родства с большою родиной уже не кажется столь благородно очевидным. Певец придонной России Балабанов намедни крутенько поиздевался над этим посылом чувственной мелодекламацией «И травинка, и лесок, в поле каждый колосок» - характерно, что страна приняла эту фигу за чистую патриотическую монету.
Именно сейчас, на старых прошкинских фильмах, видно, насколько не за свой, а за примеренный на себя государственный грех винилось разночинное сословие перед дальней далью - ответное ползучее охамление быта, управления, телевидения ежедневно топчет уже его мещанский интерес. Оттого Быков задним числом выкатывает честный разбор всей дуболомной, назойливо кишащей просторечиями деревенской прозе. Оттого даже в астафьевских сочинениях то и дело достают до печенок швыряющие ворогов в поганый ручей закомплексованные труженики-богатыри. Оттого черной скукой несет и от прошкинского ледолома, битья в рельсу, пьяных застолий и праздничной дроби по половицам. Парадоксальным образом, забившийся в медвежий угол бирюк-дезертир становится ближе десятилетиями навязывающего себя «обчества». Лучше отшельническая немота, чем кособокий, косорукий, косоротый и косорылый базар, все эти настырно заковыристые «мшаники», «бочажки» и непременный графоманский «окоем». Если б дезертир еще каждый секунд не совал в кадр дедову бляху с двуглавым орлом - цены б ему не было.
Тихо отмирает одно из базовых (после кино о войне и кино о школе) ноу-хау русского кинематографа - фильм о деревне. С бабьим большинством, весенней распутицей, кирзовыми сапогами в любую погоду, с баней - хранительницей семьи и деревянными детскими гробиками ранней зимою. Ясно было, что отпоют его первым, ибо никого, кроме русских, ни шукшинское кино, ни салтыковский «Председатель», ни Нонна Мордюкова за трактором не занимали ничуть. Интересно, что в последний путь его провожает режиссер все-таки городской и в истошном колодезном славянофильстве не замеченный. Накатит на него стих - он в следующий раз заделает что-нибудь совсем эскапистско-декадентское вроде «Черной вуали», был и такой у него фильм - с ятями, пиковым тузом и мужской сеточкой для волос.
Читать дальше