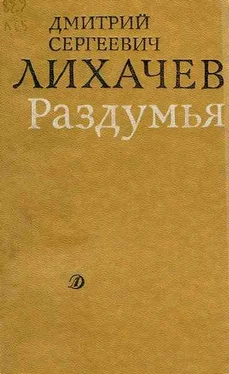«Как-нибудь» означает здесь, как я понимаю, нехотя, боязливо, осторожно. Лошадь не любит неверной и незнакомой дороги, а снег только что выпал, под копытом ползет, попадается чернота — земля незасыпанная, и даже какой-нибудь знакомый пень или камень выглядит по-новому, пугает. Это — обычное дело со всякой лошадью, необязательно крестьянской. Лошади, как правило, подслеповаты, всякое пятно под ногами кажется им ямой. Некоторые из них ни за что не пойдут через тень, лужу, а начнешь понукать — прыгнут, именно как через яму, а так не пойдут. Кроме того, как я уже сказал, лошадь очень не любит, когда дорога зыбкая, нога у нее ползет, куда-то уходит, проваливается. И вот выезжаешь по первому снегу, и начинает лошадь упираться. Иногда упирается она буквально, останавливается перед какой-нибудь чернеющей на снегу палкой и не идет (еще вчера по грязи мимо той же палки шла как ни в чем не бывало!), но вообще это конники так говорят — «упирается», то есть идет неохотно, и Пушкин, много в деревне ездивший, это, конечно, хорошо знал.
«Снег почуя» — лошадь прежде всего и преимущественно все чует. Глаза у нее сравнительно слабые, слух неплохой, но главное — чутье».
Очень часто у читателя вызывает недоумение — как можно «плестись рысью». В современном русском языке рысь ассоциируется с быстрым бегом лошади. Но это, с точки зрения знатока лошадей, не совсем так. Рысь — это родовое понятие. Бывает медленная рысь. С нее, по разъяснениям Д. М. Урнова, рысь начинается. «Трюх-брюх» — лошадь трусит рысцой, потом — «средняя рысь» и, наконец, «маха» — быстрая рысь.
Итак, Пушкин знал крестьянский быт не как горожанин, а как житель деревни.
«ПОЛТАВА» А. С. ПУШКИНА
Пушкин долго колебался: как назвать свою поэму. Думал назвать ее «Мазепа», как одноименное произведение Байрона. Но нет: явилось новое название — «Полтава», и оно, как молнией, прожгло и осветило ее содержание судьбоносным грозовым светом.
В самом деле, Полтавская битва определила дальнейшую судьбу России. Победа под Полтавой окончательно разрешила вопрос о том, где быть столице России. Победа прочно связала судьбу двух великих братских народов — России и Украины.
Петр — главный герой поэмы «Полтава». «Он весь, как божия гроза»: это сказано о ясном лике Петра, по которому молнией пробегало волнение, охватывающее его в моменты принятия важных решений. «Он весь, как божия гроза»: это сказано и о всем его деле — грозовом и грозном, ужасном для личных судеб отдельных людей и благодетельном для судеб народов и страны.
Гроза Петра — гроза «Божия», то есть как бы определенная свыше законами истории. И он «законный» глава — не добивающийся своего положения интригами или быстрыми и случайными успехами. И в этом отношении Петру противостоят двое — шведский король Карл XII, «венчанный славой бесполезной», и изменник Мазепа. Карл по натуре авантюрист, и «не ему вести борьбу с самодержавным великаном»:
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит…
Так характеризует Карла его союзник Мазепа, понявший его после его поражения. Но не менее случаен в истории и сам Мазепа, для которого судьба его народа — лишь средство добыть верховную власть:
Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив не забывал…
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.
Последние слова особенно значительны. Мазепа не дорожит ни отчизной, ни любимой женщиной.
Петр на следующий же день после победы пирует с пленными врагами и поднимает кубок за своих учителей, ибо дело его — дело труженика истории, и побежденные им — не личные его враги. Мазепа же жесток, он рубит голову отцу любимой им Марии. Впрочем, любимой ли? Вряд ли! Так как главное для него — карьера и месть.
Мария — жертва великих событий истории.
Мы знаем, что дочери с таким именем у Кочубея не было, а была дочь Матрена. Исследователи Пушкина предполагают, что имя Матрены не попало в поэму из-за своего простонародного звучания. Однако во времена Пушкина имя Татьяны звучало не менее простонародно, и об этом напоминает в «Евгении Онегине» сам Пушкин, но чародейством своего языкового авторитета Пушкин превратил же простонародное имя Татьяны в одно из любимейших и распространённейших в русском народе! Мог бы он совершить это чудо и с именем Матрена, но не совершил. Почему же? Потому, что в образе Марии Кочубей ему мелькал нежный и твердый в своей беззаветной любви к мужу образ Марии Раевской, пожертвовавшей всем ради декабриста-мужа и уехавшей с ним в Сибирь, а впоследствии ставшей одной из главных героинь «Русских женщин» Некрасова.
Читать дальше