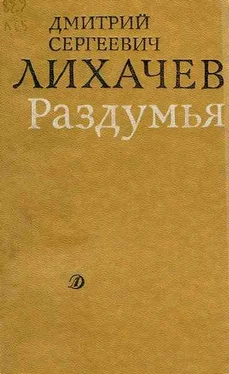Путешествовал мало: не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после гражданской войны были трудные, родители снимали на лето дачу, и надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал).
Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на Печатном Дворе, библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, где по совместительству работал отец, то единственно, в чем я испытывал острый недостаток в своих занятиях, — это во времени.
Ленинградский университет в 20-е годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом, на Исаакиевской площади, был еще институт истории искусств (Зубовский институт), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.
Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну — о Шекспире в России конца XVIII — начала XIX века, другую — о древнерусских повестях (о патриархе Никоне). К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрядился составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости! Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.
Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции: в городе была тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч — начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры. Посещения Большого зала филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей, особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и институту истории искусств. Единственно, о чем я жалею, это о том, что не все удалось посетить.
Но из занятий в университете больше всего давали мне «общие курсы», семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.
Во-первых, занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского. Когда лекции и занятия Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню, из числа участников гражданской войны, организовал группу по занятиям логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: язык надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.
Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века (тогда говорили «семинарий», а не «семинар», как сейчас) у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельно стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Байрона, анализируя их стиль и содержание. Жирмунский обрушил на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне — и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.
Читать дальше