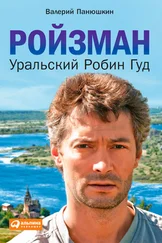— Толстой на старости лет отчего-то хотел жениться. И женился на Людмиле Крестинской-Барщевой. Только она, кажется, совсем его не любила. Он, пока был в силе, все устраивал для жены праздники, но ничто ее не радовало.
— А Рудомино, — перебиваю, — пишет, будто Людмила Ильинична была счастлива, пока жила в Барвихе, а несчастна стала, только когда ее выселили с государственной дачи.
— Не знаю, — Авен пожимает плечами. — Насколько мне известно, когда Толстой одряхлел, жена сдала его тут неподалеку в партийный санаторий. Он все писал оттуда, просился домой, но она не приняла. Там он и умер. Не дома.
Мы поднимаемся на антресоль, где стоит пара детских кроваток, разложены аккуратно детские вещи и косолапятся под креслом тапочки, принадлежавшие прежде няне. Но не слышно ни детских голосов, ни уютного няниного шарканья. И вообще — никого. Гулкая тишина. Семья Авена живет в Англии. Теперешний хозяин тоже, кажется, не слишком-то счастлив в этом доме. Про былое счастье напоминают только редкие фотографии: Авен в обнимку с Гусинским, хохочущий Авен с хохочущим Березовским, Авен под руку с Ельциным — жизнь шла в гору, время, которого не вернешь. Ибо человек счастлив не тогда, когда живет на четырехмиллиардной горе денег, а когда идет в гору, пусть и не столь головокружительную. Я:
— А вот Адриан Рудомино…
— Глупости все пишет ваш Рудомино! — отмахивается Авен без злобы, но и с некоторым раздражением. — Он и сам признал, что глупости.
Адриан Рудомино в книге «Легендарная Барвиха» сообщает, что после смерти Толстого дача его передана была кремлевскими хозяйственниками для пользования министру связи СССР Псурцеву. И Псурцев, дескать, все годы, пока на этой даче жил, бережно сохранял мемориальный кабинет Толстого. Авен же (пишет Рудомино) мемориальный кабинет разрушил, дом весь изнутри перестроил, а сам прогуливается вокруг с женой и охранником, и «на лицах написано полное безразличие и презрительное отчуждение», а «о том, чтобы раскланиваться, как то полагается, с соседями, и речи быть не может». Авен машет рукой:
«Рудомино приходил ко мне. Когда надо было какую-то рощу защищать от застройки. И я ему говорю: что же вы пишете, будто я не здороваюсь с соседями? Он засмущался». — «А вы?» — «Ну, помог как-то защитить рощу».
По рассказам Авена, когда он приехал смотреть этот дом, относившийся все еще к кремлевскому хозяйству, тут не было ни толстовского мемориального кабинета, ни старинной мебели, ни даже исправного водопровода.
— Во всех комнатах, — говорит Авен, — кровати стояли, потому что был тут бордель. Я дом выкупил за очень приличные по тем временам деньги. И рабочие долго выносили всю эту дрянь и грязь. Кроме стен, нечего было сохранять.
Так говорит Авен, в то время как с легкой руки Рудомино распространяется по соседям слух: «Хоть и говорят, что он коллекционирует картины мастеров “Голубой розы” [5], Алексей Николаевич Толстой ему оказался безразличен».
И вот я стою в этом пустом доме, и на стенах не только мастера «Голубой розы», но и «Бубнового валета» [6], и Врубель, и Серебрякова, и Кустодиев — живопись, в которой Авен разбирается тончайше. Стою и думаю: вот же дом, на стенах которого развешано картин, которых хватит на приличный европейский музей. А у хозяина, тем не менее, репутация варвара, разрушающего памятники культуры, ибо таково свойство домов на Рублевке: в них нужно не просто жить, но еще и объяснять всему миру, почему живешь так, а не иначе.
В конце 90-х, чтобы владельцам легче было совладать с социальной функцией своих рублевских домов, появилась даже отдельная профессия — не архитектор, не декоратор, а что-то вроде домового продюсера. Его задача — строить дом и одновременно легенду о доме.
Одним из таких людей долгое время был мой приятель Григорий Масленников, до тех пор пока не увлекся проектированием некоего механизма, которого не существует в природе. По профессии Григорий горнолыжный инструктор. Это многое объясняет. Он легко относится к жизни, двадцативосьмидневный роман (срок горнолыжной путевки в советское время) кажется ему уже долгими отношениями, а про деньги Григорий не знает, откуда они берутся. Притворяется, конечно. Просто берутся они откуда-то, и все по той зыбкой причине, что «у реального пацана должны же быть на кармане деньги».
Приехав с Кавказа в Москву, свою жизнь на Рублевке Григорий начал с того, что подыскал место, похожее на Домбай, по которому тосковал. В деревне Лайково ландшафт показался Григорию сродным кавказскому — холмы, перелески. А когда встал вопрос, какой дом строить, Григорий выдвинул жизнеспособную легенду: дескать, дом — это просто, у бедного человека должно быть что-то типа шалаша с костром, у состоятельного — плюс-минус шале с камином. И построил шале с камином, ориентируясь на лучшие альпийские образцы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу