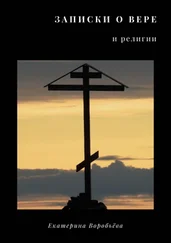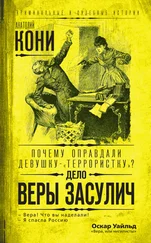В мотивированном этнонационалистическими и сепаратистскими соображениями экстремизме отчасти может быть обнаружен прообраз религиозно мотивированного экстремизма – в той степени, в какой та или иная конфессия играет отличительную роль для идентификации того или иного этнического сообщества. Например, соединение арабского национализма с исламскими компонентами проявилось в Палестине на примере таких группировок, как ХАМАС; ирландский национализм ИРА сочетается с приверженностью католической церкви (тогда как экстремисты из числа «лоялистов» демонстрируют свою протестантскую идентичность); на национализм еврейских экстремистов весьма логично накладывается сильное влияние иудаизма; из чеченского националистического сепаратизма выросло салафито-джихадистское движение на Северном Кавказе. Примеры можно продолжать, хотя, конечно, не всегда этнонационалистический и сецессионистский экстремизм может иметь конфессиональное измерение (так, в частности, оно не выражено в случае с баскской группировкой ЭТА или курдскими сепаратистами). В то же время имеется ряд примеров, когда деятельность экстремистов сепаратистского толка базируется главным образом на конфессиональной основе. К таковым относится, в частности, борьба сикхских экстремистов за создание на территории индийских штатов Пенджаб, Химачал-Прадеш и других сикхского государства Халистан.
С другой стороны, рост левых (более того, левацких) настроений в молодежной, студенческой и интеллектуальной среде на Западе, особенно начиная с конца 1960-х гг., привел к тому, что основным идейным содержанием терроризма этого периода была левизна – будь то националистического (например, ольстерского, баскского, палестинского) или интернационального (наднационального) толка. Хотя к террористической деятельности прибегали – пусть и в значительно меньших масштабах – представители праворадикального спектра, характерной чертой этого периода стало наличие ярко выраженных симпатий значительной части левой интеллектуальной публики на Западе по отношению к террористам-левакам. В 1960-е гг. на Западе большую популярность завоевывают пришедшие из стран третьего мира понятия сельской партизанской войны (теоретиками ее являются Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Эрнесто Че Гевара) и городской герильи («классиком» считается бразильский ультралевый террорист Карлос Маригелла, написавший «Мини-учебник городской герильи»). Эти теоретические разработки наложили отпечаток и на идеи, равно как и на деятельность прежде всего западноевропейских экстремистов ультралевого толка.
В это время возникают террористические группировки как в индустриально развитых странах («Фракция Красной армии» в ФРГ, «Красные бригады» в Италии, «Красная армия» в Японии и др.), так и в странах третьего мира («тупамарос» в Уругвае, аргентинские «монтанерос», маоистская организация «Сияющий путь» в Перу, палестинские левонационалистические группировки и т. д.). Случайно или нет, но самые мощные террористические группировки левацкого толка 1960–1980-х гг. на Западе возникли в тех странах, которые составляли в годы Второй мировой войны силы «Оси» – в Германии, Италии и Японии.
Именно в этот период – в 1960–1980-е годы – терроризм начинает приобретать международный, транснациональный характер. Выражалось это не только в сделавшемся более доступном и легком перемещении террористов из одной страны в другую. Возникали связи между различными террористическими группировками в разных странах. Именно это позволило говорить о рождении некоего «террористического интернационала». И в этом смысле светские террористические группировки леворадикального и/или националистического свойства стали в известном смысле предтечами транснациональной деятельности адептов «глобального джихада» в 1990–2000-х гг. Объединенные группы немецких и палестинских террористов участвовали в захвате участников саммита ОПЕК в Вене в 1975 г. и в угоне в 1976 г. самолета Air France в Энтеббе (Уганда). Японские ультралевые террористы совместно с арабами из «Народного фронта освобождения Палестины» устроили кровавую бойню в аэропорту Лод. Это только самые яркие примеры проявления на практике террористического интернационализма.
Причем «кооперация» не ограничивалась сотрудничеством внутри одного политического спектра (не случайно западногерманские террористы из группы Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф именовали себя «Фракцией Красной армии» – подразумевалось, что существует «всемирная» Красная армия, еще одной фракцией которой были отличавшиеся особой жестокостью бойцы «Японской Красной армии»), возникало взаимодействие группировок с разными идеологическими мотивациями. Политически мотивированные покушения и убийства (как конкретных личностей, так и случайных людей), похищения людей, захват заложников, взрывы в общественных местах, захват транспортных средств (от поездов до самолетов), даже суицидальный терроризм (так, трое террористов из «Японской Красной армии» совершили теракт 31 мая 1972 г. в израильском аэропорту Лод, жертвами которого стали 26 человек – в большинстве христиан-паломников из Пуэрто-Рико. При этом «красные камикадзе» перед терактом поклялись друг другу умереть и сознательно расстреливали друг друга) – все эти проявления были характерны для этого периода. И, забегая вперед, отметим: с этой точки зрения исламистские террористы конца XX – начала XXI века в практику терроризма не принесли много принципиально нового. Весь практический «инструментарий» фактически достался им «по наследству» от террористических группировок, выступавших под светскими лозунгами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
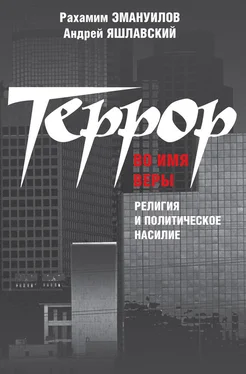
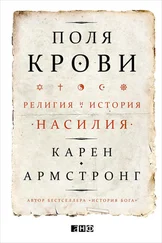


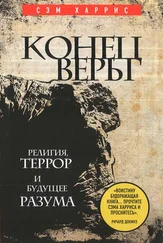
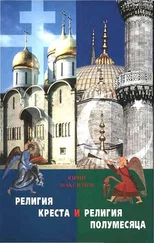
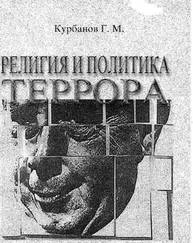
![Журнал «Государство, религия, церковь в России и - Государство, религия, церковь в России и за рубежом №3 [35], 2017](/books/438868/zhurnal-gosudarstvo-religiya-cerkov-v-rossii-i-g-thumb.webp)