У Жванецкого ни гитары, ни голоса, ни стойки Высоцкого… Одно косноязычие, да мычание, да заикание. Он извлек из них, однако, красноречие и выразительность практически античные. Демосфен, так и не вынувший камня изо рта.
Жванецкий – одессит и любит подчеркнуть это. В ранних текстах он воспевает Одессу как патриот; в поздних сетует, что она уже не та, и даже на то, что ее больше не осталось. Пафос его тот же, что и у защитников природы и памятников. Дерево – это тоже не только ветви и листья, но и тень под деревом, и небо сквозь них. Для Жванецкого человек тоже природа, и отстаивает он язык, характер, юмор – кружевную тень человека.
Юмор – последний оплот свободы, последний шаг отступления. Утратить его – значит сдаться. Сохранить – перейти в наступление. Сказать остроумно – уже выжить, уже спастись. Наше просторечие хорошо выражает остроумие как действие именно военное, вроде рукопашной: срезал, снял, убрал…
У слабого находится защитник, у погибшего – летописец. В слове таится бессмертие. Меня всегда занимало, что вперед и чего: слово или дело? Если В. Даль собрал словарь «живаго великорускаго языка», то в какой момент этот словарь стал уже не «живаго», зато сохранил нам сокровищницу русской речи?
Может, и Далю достало сил на подвиг лишь в предчувствии близкого разорения этих сокровищ? Может, он успел? И тогда он-то и спас «живаго». И что, скажем, сделал Достоевский в «Бесах»: выразил или предвосхитил, предостерег или вызвал?
То есть как отличить поражение от победы?
Это и сейчас каждый день вопрос. Пусть на менее классических примерах.
Если одесский юмор вымирает, то не последний ли Жванецкий? Во всяком случае, с его появлением шутить в Одессе стало еще труднее. Так что же он, доконал, добрал его или, наоборот, спас и именно в нем-то он, умерший, и возродился?
Спасение национального юмора – заслуга не меньшая, чем спасение водоема. Экологическая заслуга Жванецкого, кажется, еще не отмечалась.
Каким бы нескладным ни вышло это предисловие, хотя бы от обязанности излагать здесь жизненные вехи Жванецкого я свободен. Они все – в этой книге. Годы, отступая в прошлое, сливаются в периоды. Эта книга – и автобиография, и дневник.
Одесса. Инженер в порту. КВН. 1934–1964.
Ленинград. Райкин. 1965–1969.
Карцев. Ильченко. Москва. 1970–1971.
А дальше:
Жванецкий 1972.
Жванецкий 1973.
Жванецкий 1974.
Годы как циклы. Как кольца на дереве. Как сезоны:
Весна 1975.
Лето 1976.
Осень 1977.
Зима 1978.
Или:
Любовь 1979. Дружба 1980. Грусть 1981. Злость 1982.
Год за годом. Виток за витком. А годы те самые. Когда ничего…
И сквозь них живым побегом прорастает слово.
Как же все-таки представлять Жванецкого?
Жванецкий – это очень серьезно. Поэтому ни в коем случае ведущий не должен выходить на сцену, приветливо улыбаясь, будто он подарит нам сейчас любимца публики. Это вам не Кобзон и не Лещенко. Выходить надо мрачно, похоронно, с недовольным видом, как похмельному рабочему сцены, забывшему на ней свой ломик, когда занавес уже отдернут, посмотреть исподлобья в зал с неудовольствием, не понимая, чего это они все лыбятся заранее, и сказать внезапно, грубо и нехотя одно слово: «жванецкий».
Это уже слово такое. Оно что-то уже значит для каждого. С маленькой буквы – даже больше, чем с большой. Как, впрочем, и положено человеку быть, хотя бы с экологической точки зрения, – с маленькой. Человек – это звучит горько. Чаплин тоже – только пишется с большой, а воспринимается с маленькой, будто котелок приподнял. Жванецкий – это уже не человек, и не текст, и даже не сама наша действительность. Жванецкий – это наиболее естественное отношение к этой действительности. Это – взгляд, это – жест, это – интонация. Надо иметь глаза и уши. Мы не смеемся – мы рады, что они у нас еще есть.
Когда в конце того века Василий Андреев организовал свой великий оркестр, многие ценители относились к затее скептически: на филармоническую сцену выйдут подзаборные лапотники с балалайками! Андреев, зная цену своему оркестру, естественно, волновался за исход. И вот что он выдумал. Он надел на своих мужиков вполне филармонические фраки и штиблеты! И успех превзошел…
И вот как бы я в таком случае представил Жванецкого нашей просвещенной публике (она же – любезный читатель).
Цирк, прожектора, выходит в своем фраке шпрехшталмейстер и своим немыслимо торжественным манером провозглашает: «Под куполом гласности – Михаил Жванецкий!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
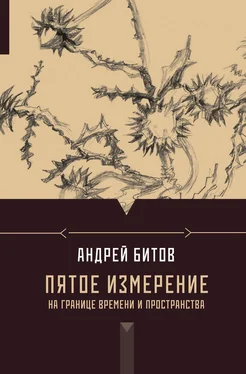

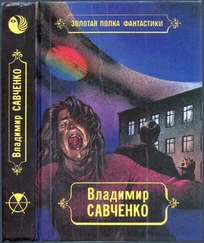



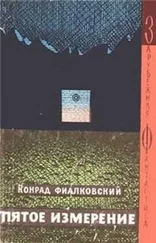
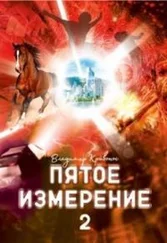
![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)
