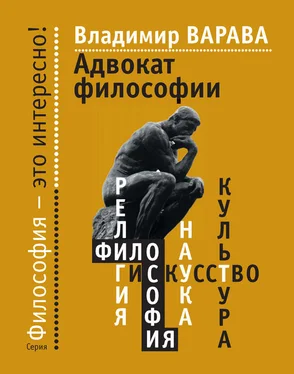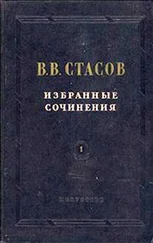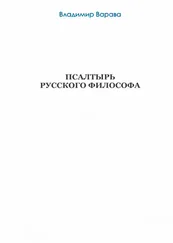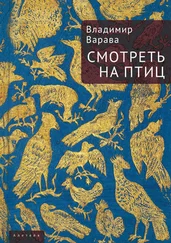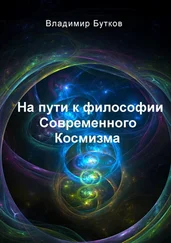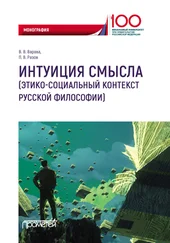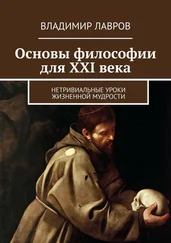Библейские сентенции «не хлебом единым» и «хлеб наш насущный» стали настолько распространенными в жизни и культуре, что их глубоко метафорический смысл давно уже стерся и стал пониматься буквально и одномерно. Этот буквальный и одномерный смысл несет в себе радикальную идею дуализма – идею разделения на тело и душу, на духовное и материальное. Такое разделение является одним из основополагающих мировоззренческих устоев человечества. «Не хлебом единым» в системе тотального дуализма означает приоритет духовных ценностей над материальными. Однако именно философия, рассматривая человека как человека, видит его высшее единство – единство не только без приоритета духовного над материальным, но вообще без всякого разделения. Антропология есть абстракция, никогда не улавливающая таинственную суть человека, в котором нет ни духовного, ни материального, ни тела, ни души, но есть человек как великая тайна, требующая всей жизни для ее постижения. Любое разделение суть упрощение, и библейское упрощение – не исключение. А поскольку оно наиболее распространено, постольку именно оно и задает меру «антропологической погрешности» в восприятии человека, в которой на бесконечность искажается непостижимая глубь человека, его истинный образ, причем где бы то ни было: в гуманитарных и естественных науках, в религиозной жизни, вообще в культуре. Отказ от понимания усеченного, то есть рассеченного библейской антропологией человека – человека, разделенного на тело и душу, влекущий за собой отказ от исключительно духовного понимания фразы «не хлебом единым», будет равен истинно духовной революции, наподобие той, которая произошла в результате «коперниковского поворота», приведшего к формированию современной картины мира.
210. Почему мы никогда не узнаем истину?
Потому что ее нет? Или потому, что мы несовершенны? Или, может быть, потому, что она невыразима? Отсутствие истины или отсутствие человеческих возможностей здесь причина? Все это не то, все – мелочный рационализм. Истина есть истина – всем понятно. Но мы ее никогда не узнаем. И это тоже всем понятно.
211. Действительно ли нуждается человек в спасении?
Если не принимать в расчет глобальные угрозы человечеству (экологические, демографические, климатические, астрономические и др.), всегда только угрожающие и никогда полностью не сбывающиеся (поскольку ни одно злое пророчество о гибели человечества не должно сбыться), то возникает вопрос: «Что же действительно угрожает человеку и человечеству?» Смерть и ничего кроме смерти. Все существующие системы безопасности исходят из угрозы смерти; государство занимается безопасностью физической, религия озабочена духовной безопасностью. Смерть – единственное, что по-настоящему угрожает человеку; так, по крайней мере, говорит нам коллективный инстинкт безопасности, основанный на страхе смерти. Но действительно ли смерть – угроза? Все ли понятно в самой смерти, чтобы вменять человеку жажду спасения в качестве единственной надежды и основы его жизни? С чем связана опасность смерти? Только лишь с тем, что смерть прекращает жизнь (материалистическая точка зрения), или с тем, что начинается после смерти, поскольку неправедному угрожает вечная духовная смерть? В любом случае, смерть – то, что пугает, и то, чем пугают. Однако она неустранима с сущностного горизонта в принципе, ибо устранить ее значит изменить существование до невообразимого уровня научной и религиозной фантастики. К тому же смерть не осмыслена как факт жизни. Этому мешает страх смерти, парализующий всякую волю к ее постижению. Мнимая угроза порождает мнимое спасение. При этом никто не знает, как спасаться; меры спасения столь различны, что заставляют здесь сильно сомневаться. И если честно заглянуть в глубину человеческого сердца, то мы там вряд ли найдем соответствие тому чувству, которое на духовном языке зовется «жаждой спасения». Если вдруг окажется, что человек не нуждается в спасении, какая весна жизни тогда наступит!
212. На чем держится наше существование?
Ни на чем. Безосн о вность – главный принцип любого основания.
213. Почему люди предпочитают не думать о «последних вещах»?
И почему их нельзя упрекать в этом? Беспечность, бездумье, легкомыслие, беззаботность – это ли не странно? Почему бы людям, если они действительно находятся в столь ужасном положении, как рисуют некоторые пессимистические философы и религиозные проповедники, то есть если люди смертны, конечны, обречены на вечное небытие или страдания, причем и при жизни и после нее, почему бы людям действительно не объединиться в едином порыве против столь очевидного зла? Неужели они настолько тупы и бесчувственны, настолько злы и эгоистичны, как говорят пессимисты и проповедники? Почему они ничего и никогда не делают? Человечество живет так, как будто оно бессмертно, беспечно и беззаботно; оно живет, боясь смерти, но совершенно не думая о ней, что сводит с ума проповедников «иной» жизни. Может быть, у людей нет выбора и, за явной недостаточностью аргументов пессимистов и проповедников, люди предпочитают пусть бессмысленное, но реальное сиюминутное благо вечной, но отнюдь не очевидной перспективе? Или дело в чем-то ином? Природа человека так неясна, что разумнее всего не делать здесь никаких однозначных выводов в пользу человека или против него. Человеческое существование само по себе достаточно сильный аргумент, таково метафизическое алиби человека. Человек существует, не зная – зачем. Это ли не глубоко?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу