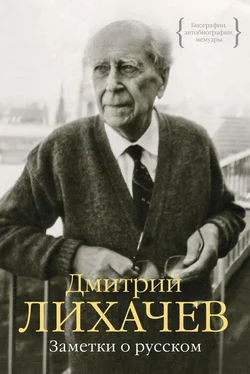Вопрос четвертый. А какова роль именно этого типа «сопротивления материала» в средневековой литературе – в истории литературы? Средневековые литературы принадлежат к нормам литературы начальной, в которой неясно проявляется личность писателя, его индивидуальность. То же самое ведь в отношении традиционности мы встречаем и в фольклоре. И вот важно, что традиционность облегчает творчество. Плотник рубит избу. Ему не надо изобретать ничего нового – крупно нового, во всяком случае. Размеры бревен и досок, способы рубки – все это определено веками. Он только чуть-чуть что-то изменит, положит лишнее бревно, вытешет новый в чем-то узор. Ему легко работать без ошибок. То же самое в фольклоре при создании новой песни или былины, плача по умершему и пр. Но еще яснее это в средневековых литературах. Традиции, каноны, этикет, готовые формы языка позволяют пишущему (вовсе не ощущающему иногда себя писателем) сосредоточиться на главном и создать произведение новому святому или что-то для новой службы старому. Хроникер уже знает, чту записать из происходящих событий, какие факты выделить, сообщить о них читателю. Он добавит в это «традиционное видение» истории что-то свое, отразит свое волнение, свою скорбь… Традиционность увеличивает генетические способности литературы, облегчает создание новых произведений.
Вопрос пятый. А зачем нужна эта «генетическая легкость»? Пусть будет меньше произведений, но с другими материалами сопротивления. Этот вопрос сложный. Постараюсь объяснить, в чем тут дело. Литература существует, развивается только при условии известного насыщения «пространства литературы» произведениями. Если произведений мало, литература как живое целое перестает существовать. В литературных произведениях есть «чувство плеча», ощущение соседства. Каждое новое талантливое произведение повышает литературную требовательность пишущего и читающего общества. Если вовсе нет фольклора – невозможно сочинить былину. В обществе, где никогда не слышали музыки, нельзя творить не только Бетховену, но и Гершвину. Литература существует как среда. «Братья Карамазовы» могли появиться и существовать только в соседстве с другими произведениями.
Из глубин «литературной вселенной» идут пронизывающие ее «гравитационные волны», излучения. Они идут от других галактик – например, византийской, сирийской, коптской, а некоторые даже откуда-то из-за пределов всех возможных галактик. Это волны-традиции. Как астрономы, мы можем по ним сделать предположения о начале литератур, о начале литературной жизни. Никто еще точно не зафиксировал их возникновение, их начало. Изучая традиции, мы сможем понять возникновение литературного творчества. Близко подошел к решению этого вопроса А. Н. Веселовский.
За пределами русской, армянской, грузинской литератур существуют свои формы устного искусства слова, существует литература Византии, за ней – Античность, а за ней что?
Чтобы проникнуть в самые глубины существования искусства слова, мы должны быть астрономами литературы, обладать гигантским научным воображением и гигантской эрудицией.
Не только литературные произведения требуют соседства, но и соседство наук ко многому обязывает. Литературоведение отстало от других наук. Нам многое предстоит сделать.
Современные писатели (писатели Нового времени) гордятся меткостью своих сравнений, сходством внешним. А средневековые писатели стремились увидеть за внешним сущностное. Метафоры были для них символами; внутренняя сущность прорывалась через внешнее сходство – цыпленок выходил из скорлупы яйца…
Когда автор «Слова о полку Игореве» сравнивает Ярославну с кукушкой, он видит в ней не просто птицу (тогда уж лучше было бы сравнить ее с чайкой), а мать, у которой сын находится в чужом гнезде – в гнезде Кончака.
Лебедь в «Слове» – всегда видение предсмертное. И тогда, когда бегущие от русских половецкие телеги кричат по-лебединому. И тогда, когда Дева Обида бьет лебедиными крылами на Синем море – том самом, откуда двигались половецкие полки навстречу Игоревой рати.
Ярославна не случайно обращается с мольбой в своем плаче к Солнцу, Ветру и Днепру, то есть к трем из четырех стихий: свету, воздуху, воде. Ей не надо обращаться к Земле, ибо она сама Земля, то есть родина. Земля не может быть враждебной. Солнце же сперва предупреждало Игоря, а потом скрутило жаждою луки Игоревых воинов. Ветер гнал от моря на Русь тучи и подхватывал половецкие стрелы, чтобы донести их до Игоря. Днепр мог бы помочь насадам Святослава достичь места битвы, но не помог.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу