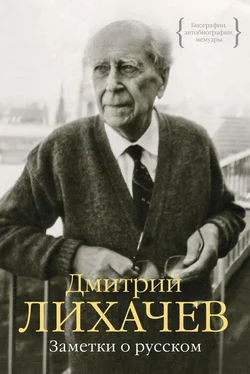Мы звали его на Соловках Юрка Казарновский. Он был великий озорник. Насколько это было возможно в лагерных условиях. Начальство в лагере было глупое и необразованное. Казарновский работал в культурно-воспитательной части. Во главе ее стоял совершенно неграмотный северянин.
Тогда была такая теория о «социально близких» и «социально дальних». «Близкие» – это воры, а «дальние» – контрреволюционеры. Теория гласила, что надо все делать для «социально близких».
Однажды сказали Казарновскому и Шипчинскому (это тоже заключенный и тоже поэт), что нужно написать лозунг к Октябрьской революции, к празднику, – мол, на Соловках все делается для рабочих и крестьян. И тогда кто-то из них – я не знаю кто – быстро выпалил: «Соловки – рабочим и крестьянам!» Начальник сказал: «Во, здорово! Вот это нам и нужно!» Написали на плакате лозунг и повесили над входом в лагерь, над главными Никольскими воротами. И только потом кто-то указал, что это неприлично, и лозунг сняли.
Журнал «Соловецкие острова» издавался с 1926 по 1932 год и свободно продавался по стране. Его можно найти в библиотеках. Там иногда проходили довольно озорные вещи, много любопытного материла.
Я попал в лагерь в конце октября 1928 года, а Казарновский немного раньше, по-моему весной. Меня осенью 1931 года увезли с Соловков, и 4 августа 1932 года я был освобожден с «красной чертою». Из пяти я пробыл там четыре с половиной года. «Красная черта» – это значит, что я был освобожден как ударник Беломоро-Балтийского канала: к этому времени он был закончен, и Сталин, в восторге, всех строителей освободил. Так мне повезло.
В это время как раз шло уничтожение крестьян. Голод. Их везли навстречу нам эшелонами. Так оправдалась дурацкая шутка.
Издательство Академии наук СССР
Тридцатые годы были для меня тяжелыми годами. Осенью 1932 года я поступил работать литературным редактором в Соцэкгиз, помещавшийся на Невском в Доме книги. Не успел я немного освоиться с работой, как у меня поднялись жесточайшие язвенные боли. Я не обращал на них внимания, не соблюдал диету, продолжал ходить на работу. В трамвае мне стало однажды дурно, приняли за пьяного, стали упрекать: такой молодой и уже с утра пьян. Кое-как я доехал до Дома книги, поднялся, сел за свой письменный стол и потерял сознание. У меня хлынула горлом черная кровь. В полубессознательном состоянии меня доставили в Куйбышевскую больницу. В приемный покой вызвали родителей и сказали им прямо: потеря крови чрезвычайно большая и надежды почти нет. Но меня спас хирург Абрамзон (в блокаду его разорвало на мелкие части снарядом), который тогда стал делать первые опыты переливания крови. Донор стояла со мной рядом, и кровь непосредственно от нее текла мне в вену, которую раскрыли на сгибе правой руки. Помню это как во сне. Помню полублаженное состояние: ничего не хотелось, не было страха смерти, прошли боли. Я пролежал в больнице несколько месяцев, затем лежал в Институте питания (был такой в Ленинграде) и занимался беспорядочным чтением. Чтение, чтение и чтение. Потом снова пошли поиски работы. Я устроился работать в типографию «Коминтерн» корректором по иностранным языкам. Боли возобновились; приходя домой, я валился в постель и заглушал боль чтением. Недостатка в книгах не было. Труд корректоров, считавшийся тогда тяжелым, ограничивался шестью часами. В пять часов я был уже дома и в постели. Благодаря связям отца в типографиях и возможности получать книги из превосходной библиотеки Дома книги, чтение мое приобрело более систематический характер. Я читал книги по искусству, по истории культуры. Иногда посещал библиотеку сам.
Когда в 1934 году я был переведен на работу в издательство Академии наук СССР, я получил возможность получать книги из библиотеки Академии наук. Утомление от корректорского чтения и от вычитки рукописей не мешало мне в моем чтении дома в кровати. Я был вполне доволен своей судьбой. Делал выписки, размышлял и ни с кем почти не общался. Единственным моим другом был мой однокашник по университету М. И. Стеблин-Каменский. В отличие от меня, ему не удалось кончить университет, и он сдавал все предметы экстерном, работая в том же издательстве техническим редактором. Среди ученых корректоров издательства было много пожилых людей «из бывших». Два бывших барона, лицеист, правовед, странный старичок-старообрядец, оказавшийся моим дальним родственником по матери, и два замечательных по своей общей культуре человека – А. В. Суслов, родственник жены Достоевского, и Л. А. Федоров. Общение с ними было великой школой. Как важно выбирать своих знакомых, и главным образом среди людей выше тебя по культурному уровню!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу