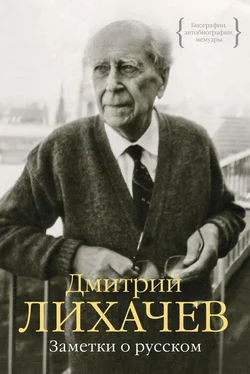Графиня Шуазель-Гуфье в своих «Воспоминаниях об императоре Александре I и императоре Наполеоне I» восхищенно описывает Петербург при первом своем знакомстве с ним. Вот несколько удачных фраз из ее описания. Подъезжая к Петербургу: «Окрестности Парижа, за исключением королевских резиденций, не имеют того великолепия, как окрестности Петербурга, где между тем все создано искусством». Действительно, кольцо пригородов Петербурга основано одновременно с городом. Это единственная в мире столица, так строившаяся. Описывая Неву, «ее сапфировые волны», большую часть года покрытые судами с разноцветными флагами всех народов, она замечает: «Нева составляет красоту Петербурга, его славу, богатство и ужас». И далее: «Вечером этот красивый и пустынный город, при полусвете, не похожем ни на дневной, ни на лунный <���были уже белые ночи> и дающем всем предметам какое-то волшебное освещение, казался мне настоящею панорамой».
М. П. Погодин где-то сказал: «Город есть книга, в коей всякая улица занимает страницу. Будем прибавлять новые листы, но не станем вырывать старых».
Ошибки архитекторам прощать нельзя. Новое здание МХАТа строил архитектор Кубасов.
26.11.86
Понятие реставрации следует соединить с понятием integrity – нетронутость, цельность. «Нетронутость» истории, всей жизни объекта реставрации (по возможности) должна быть правилом реставрации. Если жизнь тронула объект (именно жизнь, а не случайность), то и это следует оставить.
Реставраторы часто задаются вопросом: «на какое время реставрировать» то или иное здание? Например, такой вопрос стоял перед Меншиковским дворцом в Ленинграде в 70-е годы. И сами искусственно создали проблему – Меншиковский дворец или размещавшийся там впоследствии Кадетский корпус? Но и то и другое ценно во многих отношениях, а единого времени и тут найти нельзя: Меншиков постоянно перестраивал и так и не достроил свой дворец, а Кадетский корпус существовал до самой Октябрьской революции, и с ним связано много событий, театральная жизнь, музыкальная жизнь; он описан у Лескова. В нем учились многие выдающиеся полководцы. Надо было найти способ не утратить памяти ни об одном из значительных периодов в жизни этих зданий, а также его связи с городом (при Меншикове дворец не был окружен зданиями, как сейчас).
Почему, спрашивается, нельзя разрушить какой-нибудь дом-коробку из силикатного кирпича или панелей (точное слово «панель», обозначающее и тротуар, и материал стены дома; тут и там «истоптанность»), а ничего не стоит получить разрешение Общества охраны памятников культуры и истории на разрушение в миллион раз более ценного исторического здания?
А вообще-то, у меня такое впечатление, что общество существует главным образом для того, чтобы выдавать разрешения на снос «в виде исключения» или «закрывать глаза». Я бы изобразил символ общества в виде человеческого лица с завязанными глазами.
Кстати, общество бахвалится огромными суммами, истраченными на реставрацию, но из этих сумм следовало бы вычесть деньги, пошедшие на ремонт и благоустройство начальственных кабинетов, начальственных зданий и… на установку лесов вокруг разрушающихся исторических строений (самое легкое и выгодное дело; и общественное мнение успокоено: меры приняты).
Архитектурные мечтания. Сидя в летнем плетеном кресле на башне Пушкинского Дома (именно одну из этих башен имел в виду Пушкин, когда в «Медном всаднике» написал «дворцов и башен» – башен тогда было только две – Кунсткамеры и нашей Таможни, отведенной потом под Пушкинский Дом), я думал часто: каким мог бы быть красивым Ленинград, – и сочинял в воображении свои «градостроительные» проекты. Это «сочинительство» время от времени нарушалось звуком «мессершмиттов». Помню: один из них пролетел настолько низко, что я успел даже увидеть фигуру летчика. «Кто вам теперь целует пальцы?..»
И вот грандиозный проект, пришедший мне в голову. Снести все безобразные склады на Ватном острове напротив, кроме, разумеется, самого Тучкова буяна, который можно великолепно приспособить под дворец спорта, – лучше всего под дворец водного спорта. «Почистить» от лишних зданий Петровский остров и, в частности, от бедного еще тогда стадиона. Тогда будет создана превосходная цепь парков для больших воскресных прогулок ленинградцев. У Финляндского вокзала зеленые массивы Военно-медицинской академии, затем через мост зеленый парк мимо китайских шидз и дворца Николая Николаевича, Кронверкский парк с двойным охватом – одним по задней стороне Петропавловской крепости мимо Артиллерийского музея (эта часть моего проекта осуществлена, и даже лучше, чем мне мечталось), другим – по Кронверкскому проспекту (теперь этот проспект, кажется, официально называется «проспектом Максима Горького»; ох уж это мне обилие Горького! – вызывает одно раздражение). Потом со сносом трех-четырех доходных домов зеленый переход против Биржевого моста («Моста строителей»). Затем снова парк на Ватном острове, парк Петровского острова, парк Крестовского острова и парки Каменного и Елагина островов с выходом на Стрелку, чтобы вечерами смотреть закаты, гулять белыми ночами. А начавшееся к тому времени строительство Крестовского стадиона – да ведь это великолепно! Все ложилось в мою схему большого прогулочного парка, доступного без утомительного транспорта всем ленинградцам. Детали: велосипедные дорожки, различные зоологические садики, выставочные помещения, вольеры, спортивные площадки! Все было хорошо: город приобретал фантастическую красоту.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу