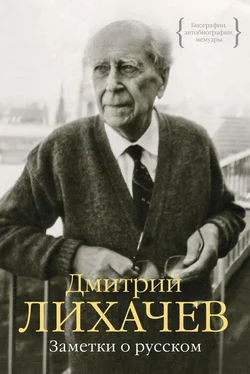Но вот еще один вопрос. Чехи говорят «чиновничка» вместо «женщина-чиновник». По-русски сказать так нельзя. Мы говорим «секретарша», а не «секретарка». Почему же в Москве появилось словцо «швейцарка»? Уж лучше бы «швейцарша», если не «швейцар».
По-видимому, только старые женские профессии сохраняют и будут еще долго сохранять женский род – «парикмахерша», «маникюрша», «кухарка», но в целом постепенный отказ от женского рода в названиях профессий – процесс естественный и не режущий уха.
Сочиненная мною «под древнерусскую» поговорка: «Не только „днесь“, но и тамо взвесь».
Справка: слово «нигилизм» было богословским термином и означало атеизм. В политическом и общественном смысле оно впервые было употреблено Н. И. Надеждиным (1804–1856) в статье «Сонмище нигилистов» в «Вестнике Европы» за 1829 год.
Древняя русская письменность (именно письменность, а не только литература) – неисчерпаемый кладезь богатств русского языка. В одном только совсем небольшом «Поучении» Владимира Мономаха сколько чудесных выражений: «мыслити безлепицу» (думать о чепухе), «управити сердце свое» (совладать со своими чувствами), «больного присетити», «привечать» человека («и человека не минете не привечавше»), «ни свереповати словом, ни хулити беседою», «старыя чти яко отца, а молодыя яко братью» и т. д.
Но дело не только в языке, но и в умении рассказа. Шедевры выразительной краткости: летописный рассказ о смерти Олега, о четырех местях Ольги, о походах Святослава, о его смерти и многое другое. Один из лучших рассказов – это «Повесть о разорении Рязани Батыем» или «Повесть о Петре и Февронии Муромских». И еще я люблю «Повесть о Тверском Отроче монастыре». Что касается до протопопа Аввакума, то это вообще первый гений в русской литературе. Не оттого первый, что до того просто не было, а потому, что литература как фольклор была не личностной.
В поликлинике для слепых не говорят «слепой», а говорят «незрячий». В нашей обыденной терминологии много таких же слов и выражений, считающихся более «приличными» или, вернее, «менее ранящими» сознание.
Когда мне был 21 год, я написал маленькое эссе (на одной-двух страничках). Называлось оно «Феноменология вопроса». Я описал «жизнь вопроса» как слова. Подборка у меня не сохранилась, но было в ней десятка три выражений: что делается с «вопросом» в течение его «жизни». Примерно так: «Вопрос зарождается, поднимается, выдвигается, касается, разрабатывается, излагается, ставится на обсуждение, будируется, ставится ребром, становится наболевшим, исчерпывается, снимается». Я подбирал эти «идиомы» с неделю, а чем больше их я находил, тем смешнее и «сатиричнее» становилась вся жизнь «вопроса».
Е. В. Тарле в своем «Наполеоне» очень хорошо пользуется скобками для своих иронических замечаний.
Многие поговорки известны у нас в укороченном виде. Сперва все знали их в полном и потому понимали с начальных слов, а потом поговорка казалась понятной и без продолжения: поговорка – и все тут. Так, например: «Лиха беда начало…» Почему беда? А вот что сказал Петр, по преданию, когда первым в 1702 году стал вбивать свайку в особенно бурной реке, переводя свои фрегаты из Белого моря в Онежское озеро: «Лиха беда первому оленю в гарь кинуться, остальные все там же будут». А вот другая поговорка: «Не выметай из избы сору»; полный ее вид: «Не выметай из избы сору к чужому забору».
Кстати, восстановление первоначальной полной формы поговорок могло бы быть темой особой научной работы (и очень важной).
Графика и орфография могут выражать экспрессию. Пример тому – «Письма русского путешественника» Карамзина, где большими буквами выражен целый ряд понятий (Республика, Народ и пр.).
Меня интересует психология сознательной порчи языка. Этому вопросу посвящена моя работа 1964 года: «Арготические слова профессиональной речи». Как мне кажется, мне удалось объяснить появление экспрессивных выражений в языке тех или иных профессий или учащихся. Жаль, что положения статьи не используются практически в воспитательной работе. На нее как-то не обратили внимания, а я сам придаю ей серьезное значение.
Завет Гоголя: «Со словом надо обращаться честно».
В современной архитектуре утомительно отсутствие значимости. Значимость придается ей временем, событиями, которые связаны с тем или иным архитектурным сооружением, людскими судьбами, внесенными литературными темами и т. д. Но значимость вносится и самим строителем. Мы должны «узнавать» назначение здания по его архитектурным формам. Мы должны сразу видеть, что перед нами вокзал, а не больница, не гостиница, не школа, не жилой дом. Назначение здания должно быть выделено в нем. Но, помимо назначения здания, мы должны ясно ощущать вход, подъезд, лестничную клетку. Вместе с тем фасад не должен быть однообразным. Однообразие окон (особенно «ленточных») утомляет не менее, чем однообразие улицы, дороги (на отчетливо прямых магистралях водители засыпают). Районы должны быть разные, разнообразные, разноэтажные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу