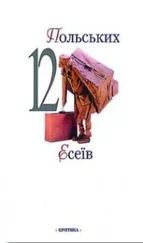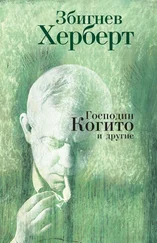Беренсон был дитя века, который превыше всего ставил «прогресс», посему «византийский» Дуччо должен был располагаться ниже «ренессансного» Джотто. Но знаменитый ученый проглядел два весьма существенных обстоятельства.
Дуччо не принадлежал к художникам, которые совершают эффектные открытия. Их роль состоит в создании нового синтеза. Значение этой категории творцов зачастую оказывается недооцененным, так как они не слишком экспрессивны. Чтобы заметить их, нужно долго осваиваться с их эпохой и художественным фоном. Как совершенно справедливо отметили новейшие исследователи, в произведениях великого сиенца произошел синтез двух великих и противоположных культур, с одной стороны, византийского неоэллинизма с его иератичностью и антинатурализмом, а с другой — западноевропейской, а точней сказать, французской готики с ее экзальтацией, натурализмом и склонностью к драме.
Джотто открывает дорогу возрождающемуся наследию римлян, которые, по правде сказать, не привнесли в искусство значительных ценностей. И то, что его имя связывают с Ренессансом, вовсе не хронологическая неточность, хотя работал он за два века до открытия Америки. Европейская живопись — похоже, никто этого вслух не сказал, — которая идет за ним, утрачивает связь с гигантскими пространствами умерших культур и становится грандиозным, нелокальным приключением. Она высвобождает чудище натурализма. Оказывается разорвана связь с великими реками человечества — Нилом, Евфратом, Тигром.
Дуччо, хоть и очарованный — а это вне всяких сомнений — миниатюрами парижской школы, отступает вглубь, к корням культур. В отличие от Джотто он не открыватель новых континентов, но исследователь затонувших островов.
Все это я осознал гораздо поздней. А пока, утратив дар речи, стоял перед панно, как перед золотым витражом, на котором рассказана жизнь Христа и Марии. В Сиене остались сорок пять сцен, четырнадцать растащили коллекционеры Нового и Старого Света.
От панно исходит такое лучистое сияние, что в первый момент я воспринимаю это как эффект золотого фона, который, возможно, благодаря скверной реставрации, трещинам и поврежденной лессировке, никогда не бывает неподвижным и однородным, как металлическая пластинка; у него есть свои глубины, по нему пробегает дрожь и волнение, есть горячие и холодные области с подкладкой зелени и киновари. Чтобы другие цвета на этом золоте не угасли, им нужно придать сверхъестественное напряжение. Листья деревьев подобны камешкам сапфира, шкура осла в бегстве в Египет словно серый гранит, снег на срезанных вершинах сверкает, как перламутр. Живопись Дуоченто была близка к мозаике, красочные пятна инкрустировали плоскость, и у них была твердость алебастра, драгоценных камней, слоновой кости. (Лишь позже живописная материя начала дряблеть: у венецианцев это полотнища шелка, бархата, муслина, у импрессионистов уже только цветной пар.) Цветовая гамма богата и изощренна; Фосийон {97} 97 Фосийон Анри (1881–1943) — французский искусствовед, историк искусства, художественный критик, автор книги «Искусство Запада».
, чтобы подыскать для нее достойное сравнение, выходит за пределы Византии и вспоминает персидские сады и миниатюры.
Византийских мастеров обвиняют в пренебрежении подробностями (что, по мнению некоторых, означает отсутствие реализма), однако упрек этот ни в коей мере не относится к Дуччо, у которого было просто необыкновенное чувство детали. В «Браке в Кане Галилейской» рыбы на тарелках, и еще целые, и уже съеденные, от которых остались только хребты, исключительно конкретны. Мастер не боится вводить эпизоды, разрушающие унаследованную иконографическую схему; например, сцену «Въезда Христа в Иерусалим» наблюдают уличные мальчишки с зеленой трибуны деревьев. Любимая моя картина — «Омовение ног». Она замечательна как пример удачного манипулирования группой. Молодые режиссеры должны стажироваться у Дуччо, да и старым это тоже пошло бы на пользу. Картины великого сиенца можно играть, и уж совершенно непонятно, почему в актерских школах практически не делают никаких выводов из анализа жестов; ничего удивительного, что потом мы видим на сцене герцогов, ведущих себя как лоточники.
В «Омовении ног» Дуччо разворачивает действие, как греческий трагик, оперируя только двумя актерами, но зато сзади находится хор, который комментирует происходящее. Половина апостолов смотрит на Христа с обожанием, другая — с неодобрением; не очень, видно, нравится им этот акт смирения Учителя. Одна деталь вызывает у меня неослабевающее восхищение — это три черных сандалия; два лежат около лохани с водой, а еще один — выше, на ступени, на которой сидят апостолы. Сандалии резко выделяются на розовом фоне пола, а слово «лежат» не передает их сущности. Они, пожалуй, самые живые в этой сцене — и расположение их по диагонали, и отброшенные в стороны ремешки выражают крысиный переполох. Тревога сандалий контрастирует с мертвенной бледностью свернутого занавеса, который нависает над головами апостолов, как зловещий саван.
Читать дальше
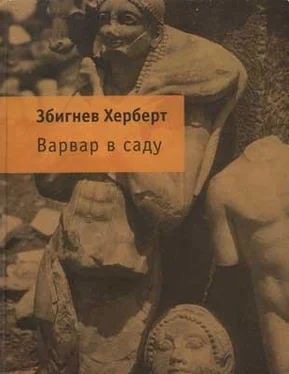
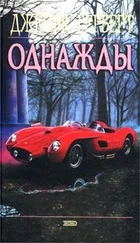
![Говард Фаст - Муравейник Хеллстрома.[Херберт Ф. Муравейник Хеллстрома. Фаст Г. Рассказы]](/books/84780/govard-fast-muravejnik-hellstroma-herbert-f-mura-thumb.webp)