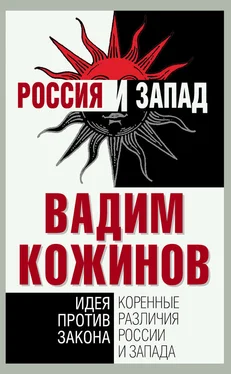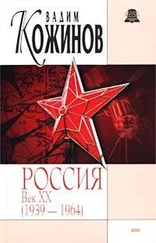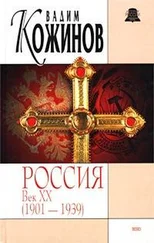Вскоре после этого письма Голованов возвратился в Большой театр – из чего, впрочем, не следует делать «однозначный» вывод о Сталине как беззаветном спасителе русской культуры; не забудем, что и Булгакова все-таки сумели вытеснить со сцены, и Голованов в середине 1930-х годов снова был вынужден покинуть Большой театр и вернулся в него только в 1948 году. Вообще ситуацию той поры мы только начинаем действительно понимать. Но все же можно вполне определенно сказать, что Голованов благодаря этой «верховной» поддержке смог несколько лет продолжать свою деятельность, и она сыграла свою благотворную роль в судьбе таких всенародно любимых певцов, как Козловский, Лемешев, Михайлов, Обухова, Максакова… Вместе с тем стоит отметить, что в изданных уже в наше время и «нашумевших» воспоминаниях бывшего кадрового сотрудника НКВД, а ныне ярого «демократа» Льва Разгона великий деятель русской культуры Голованов по-прежнему именуется «черносотенцем»…
Впрочем, здесь невозможно излагать драматическую историю русской песни; обратимся к современности. Те, кто с горечью или даже отчаянием говорит о нынешнем исчезновении песни, одновременно и правы, и неправы. Правы в том отношении, что русская песня почти не звучит с телеэкрана, а этот экран сегодня – главное, в известном смысле даже единственное средство довести песню до «всех».
Это утверждение может показаться странным и даже нелепым: каким же образом песня могла становиться всенародным достоянием, когда еще не существовали ни телевидение, ни даже радио? Те давние «средства информации» теперь уже нелегко понять, но ведь действительно песня (и, конечно, не только песня) могла тогда распространяться по всей России, пусть и не столь быстро, как это возможно ныне.
Господствует представление – в сущности, глубоко ложное, – что современные люди получают гораздо больше «информации», чем, скажем, люди прошлого века, а также убеждение, что человек XIX столетия был замкнут в узком кругу, а теперь он-де общается чуть ли не со всем миром.
В действительности же речь должна идти не о росте знаний и человеческого общения, а о принципиальном – и отнюдь не плодотворном – их изменении. Начнем с общения. Любой сельский житель прошлого века находился в теснейшем и, главное, непосредственном общении и с множеством людей всей своей округи, и с природой во всем ее многообразии, и с высокой реальностью бытия Церкви, и с богатейшим миром народного творчества, создававшегося веками.
Между тем сегодня живущие в «многоэтажках» люди не общаются в подлинном смысле этого слова даже с соседями по дому; их реальный круг общения – это, как правило, несколько родственников (а ведь еще сравнительно недавно родственные связи были громадными), десяток сослуживцев и совсем малое число сохранивших привязанность друзей молодости. А усваиваемая нынешними людьми «информация» – это в основном пассивно воспринятая из СМИ, кем-то переваренная «жвачка», которая может разительно отличаться от реальной жизни страны и мира.
Конечно, человек, склонный к активному, по сути дела, творческому восприятию всего окружающего, способен преодолеть ту фактическую разобщенность и «запрограммированность», о которых идет речь, но для этого необходимы немалые действенные усилия ума и души. Иначе человек обречен быть безвольным «потребителем» того, что ему подсовывают.
В прошлом веке не было ни телевидения, ни радио, ни даже широкого распространения печати, но достаточно было одному человеку занести в какое-нибудь дальнее захолустье любезную русскому сердцу песню, и она неизбежно и легко становилась достоянием всех, ибо сотни и тысячи людей, живущих в соседних деревнях или городских «околотках», находились между собой в прямых, непосредственных жизненных связях – родственных, профессиональных, как участники «игрищ», о которых было упомянуто выше и на которых все хорошо знали друг друга (в отличие от современных молодежных сборищ), и т. д.
Теперь же широкое распространение песни зависит, в сущности, от тех, кто правит телеэкраном, ибо ведь люди сидят в основном по своим квартирам, и телеэкран – их главная связь с окружающим миром… Но, прежде чем говорить об этом, возвращусь еще раз к природе самого явления русской песни.
* * *
Гоголь увидел в ней величайшую ценность, благодаря которой Русь не «уступит» столь прекрасной Италии. Бунин провозгласил «превосходство» русской песни над любой иной. Можно бы сослаться на подобные же суждения и многих других общепризнанных «авторитетов», но в данном случае важнее беспристрастно – так сказать, аналитически – выявить суть дела, тем более что слова о национальном «превосходстве» всегда вызывают сомнения и прямые протесты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу