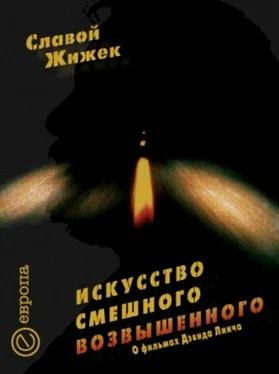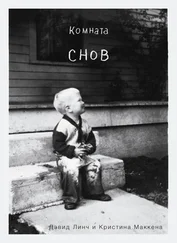Судя по всему, многие «отцы» в 1993 году поступали не-побениньевски, когда, наслаждаясь постыдным линчевским удовольствием, отправляли детей в кровать, мотивируя свой поступок тем, что «Твин Пикс» слишком страшный, а сами наблюдали за происходящим на тогда еще выпуклых экранах телевизоров «Рубин», как единорог при свете луны танцует с высоким человеком под мистическую музыку Анджело Бадаламенти. Они думали, что спасают детей от фантазмического мира кошмара и порока Линча, не понимая, что реальность первой половины 1990-х была куда страшнее… Они сами уходили в мир воображаемого, оставляя страшную реальность детям; выбирая «плохое», предоставляли отпрыскам «худшее». В контексте внутриполитических реалий России первой половины 1990-х «смешное» Линча превращается в куда более «возвышенное», чем даже считает словенский философ. Однако понять это — настоящее искусство — искусство, которому обучил нас Славой Жижек.
Александр Павлов, к.ю.н., доцент кафедры практической философии философского факультета НИУ — ВШЭ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
«Шоссе в никуда» Дэвида Линча — это холодное постмодернистское упражнение по возвращению к сценам изначальных страхов, хорошо скрытых в образах нуара. Это упражнение, как кратко выразился Джеймс Нэйремор, «без какой-либо цели, кроме как возвращения… таким образом, несмотря на весь ужас, сексуальность и формальное великолепие, „Шоссе в никуда“… остается вмерзшим в своего рода фильмотеку; это очередной фильм о фильмах». [28] Naremore J. More Than Night. Los Angeles: University of California Press, 1998. P. 275.
Подобная реакция, отражающая полностью искусственную, «межтекстуальную», иронически шаблонную природу вселенной Линча, как правило, сопровождалась противоположным нью-эйджевским прочтением, которое сосредотачивается на потоке подсознательной Жизненной энергии, предположительно объединяющей все события и людей, превращая Линча в певца юнгианского коллективного бессознательного духовного либидо. [29] См.: Nochimson M. P. The Passion of David Lynch. Austin: University of Texas Press, 1997.
Хотя это второе прочтение должно быть отклонено (по причинам, которые будут предложены ниже), оно тем не менее оказывается голосом против представления о Линче как о деконструктивисте-насмешнике, ведь на некоем, пусть пока и на неведомом уровне к вселенной Линча нужно относиться совершенно серьезно. Проблема лишь в том, что такое прочтение абсолютно ложно толкует данный уровень. Вспомните заключительный экстатический восторг, отразившийся на лице Лоры Палмер в «Твин Пикс: Огонь иди за мной» после ее зверского изнасилования и убийства; или вспышку гнева Эдди по отношению к водителю, который не следует «гребаным правилам», в «Шоссе в никуда»; или часто цитируемую беседу между Джеффри и Сэнди в «Синем бархате», когда Джеффри возвращается из квартиры Дороти. Джеффри, глубоко взволнованный, жалуется: «Почему существуют такие люди как Фрэнк? Почему в этом мире так много проблем?», а Сэнди говорит ему о хорошем предзнаменовании — своем сне о малиновках, которые приносят свет и любовь в темный мир. В парадигме постмодернизма эти сцены являются забавными, невыносимо наивными, вызывают смех, и все же они абсолютно серьезные. Их «серьезность» не указывает на более глубокий духовный уровень, лежащий в основе поверхностных клише, а скорее на безумное признание искупительной ценности наивных клише как таковых. Это эссе — попытка распутать загадку подобного совпадения противоположностей, которое является в некотором смысле загадкой самого «постмодернизма».
Глава 1
ВНУТРЕННЯЯ ТРАНСГРЕССИЯ
Ленин любил говорить о том, что человек зачастую может осознать основные составляющие собственной слабости, поняв своих умных врагов. Поскольку в настоящем эссе предпринимается попытка лаканианской интерпретации фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, может оказаться полезным сделать ссылку на появившуюся недавно «пост-теорию» когнитивистской ориентации кинематографических исследований — теорию, которая определяет идентичность за счет полного отказа от лакановских принципов исследования кино. В эссе, которое многими признается одним из лучших в «пост-теории» и которое является своеобразным манифестом нового направления, Ричард Молтби фокусирует внимание на хорошо известной короткой сцене в «Касабланке»: [30] См.: Maltby R. 'A Brief Romantic Interlude': Dick and Jane go to 3½ Seconds of the Classic Hollywood Cinema // Post-Theory. David Bordwell and Noel Carroll (eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1996. P. 434–459.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу