Унижение, пережитое им за этим занятием, трудно преувеличить. Он уже достаточно надсажен отношениями с цензурой, чтобы еще и это испытывать – самому этим заниматься… Возможно, вдохновенность текста поэмы отрезвила его от этого наваждения, от этой казни собственного детища, отвратила от самоубийственной правки – он оставляет это дело, испытав, однако, всю его горечь. Он вторично принимает то же решение – не публиковать поэму.
Это был подвиг преодоления отчаяния.
Он испытал унижение, но об этом и знал один только он.
Он мог написать «Памятник» именно в этом состоянии.
Стихотворение, как нам кажется, не вполне удовлетворило его. «Кумир – седок» отразились в нем…
Каково же и за что было это загробное наказание… чтобы Жуковский воспользовался его отвергнутой правкой для посмертной публикации…
Чем был бы памятник Фальконета без пушкинской поэмы?… Книжный «Медный всадник» превзошел его бронзовую материю, одухотворил ее. И никто теперь не видит памятник допушкинским (каким он был и есть) – все видят героя великой поэмы. И художники, бесконечно рисовавшие здесь свой Петербург, рисовали уже не памятник, а персонажа пушкинской поэзии…
И какая перевернутая история вышла со стихотворением «Памятник»… Бронзовый Пушкин Опекушина заслонил от публики слишком многое в Пушкине и его поэзии.
Тот переход живого в мертвое и мертвого в живое, который так занимал Пушкина и который он, как никто, умел выразить! Кумиры оживают, герои каменеют… Рукопожатие Дон Гуана и Командора – момент перехода смерти в жизнь и жизни в смерть… вечный этот финал!
Отказ от правки «Медного всадника», совпадающий с написанием «Памятника», – одна из сторон пушкинского подвига («вещи сокрытой»). Он не убил ожившего кумира, сам обронзовев. И «Памятник» застыл водоразделом Пушкина мертвого и Пушкина живого в нашем сознании.
Он сохранил «Медного всадника» как настоящий, ЦАРСКИЙ памятник СЕБЕ.
Теперь скульптура Фальконета такой же памятник Пушкину, как и Петру, и более памятник Пушкину, чем Аникушин и Опекушин.
VI. Между жертвенником и храмом
Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.
Пушкин, 1836
Намерению начать новую жизнь всегда предшествует кризис, попытку ее все-таки начать – сторожит крах. Обстоятельства – всегда есть или всегда найдутся: они стоят наготове. Почему-то они отступают на второй план (никуда не деваясь), если кризиса нет, если он миновал. Кризис в принципе не ужас, а стадия развития.
Поэт – человек развития. Пушкин – поэт развития. Никто, как Пушкин, не менялся с таким постоянством, умудряясь каждый раз одному ему известным чудом пройти по самому краю, вписаться в предельную кривую, означив новое качество в пределах изначальной цельности. Никто, как Пушкин, не написал столько. Писали и больше, но только он написал столько нового.
Качество новизны, кабы не наша привычка сызмальства к его текстам, не утратилось и по сей день. Богатство пушкинских жанров – не только в разнообразии, но и в неповторимости. Развивалась без Пушкина лирика, расцвела без Пушкина проза… Но где хотя бы один роман в стихах, как «Евгений Онегин», или такая поэма, как «Медный всадник», или «Маленькие трагедии», или такой компактный сюжетный роман, как «Капитанская дочка», где «Пиковая дама»?… Они стоят во времени, как рекорды, никогда не побитые, обрастая легендой недостижимости.
Так называемый творческий кризис не есть утрата способности, а есть ощупь продолжения пути, невозможность остановки в нем, невозможность повторения предыдущего успеха (он уже был)… Тайна новизны в том, что она никак не обозначена в жизни как цель достижения, она – невидима. Она – есть, и ее – нет. Никакой гарантии, что она может быть еще раз достигнута, даже у гения, быть не может. Это ощущение неизбежно исполнено трагизма; эта трагедия разрешается лишь обретением нового качества. Таким образом, писать – это не профессия, а способ жизни, причем единственный для пишущего. Непреодолимость обстоятельств на пути к творчеству есть жизнью данная форма «кризиса».
Поверженность кризисом бывает только полная. Когда рядят о «кризисе» поэта – как это напоминает скандирование плебеев на трибунах амфитеатра, требующих добить поверженного. Так же скандируют они, когда уже поздно, требуют оставить ему жизнь (воскресить). Люди слишком дорого ценят свои аплодисменты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
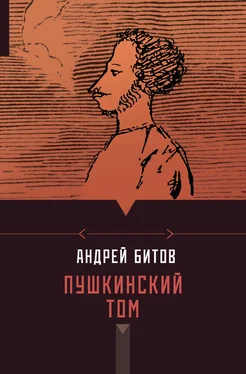


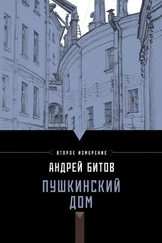

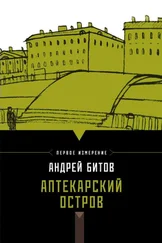



![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)