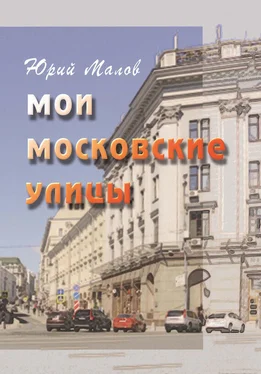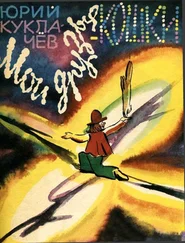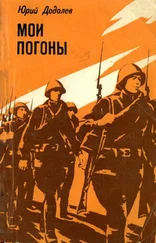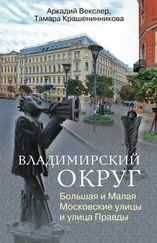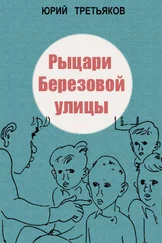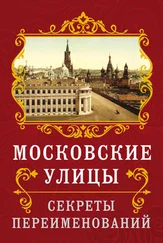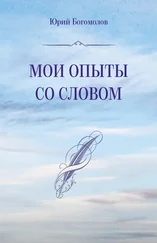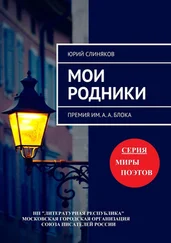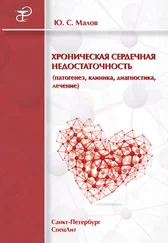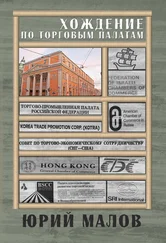Со временем центр «гусарской» активности полностью переместился в коммунальную квартиру в Брюсовом переулке, где Юрий Чернов, не претендуя на эту роль, стал для нас своего рода авторитетом по поведению, реакцией которого мы стали невольно соизмерять свои собственные поступки. Он, кстати, ввел в нашу компанию нового члена – студента-медика Тельмана, – лицо, как теперь говорят, кавказской национальности, зарабатывающего себе на проживание и учебу в Москве работой на «Скорой помощи».
Юрий никогда не стремился привлечь к себе внимание, хотя был настоящим эрудитом и потрясающим рассказчиком. Мысли свои он высказывал четкими логически выверенными фразами и всегда по существу. Однако о своем раннем детстве, трагедии, постигшей их семью, трудном периоде эвакуации из Москвы в годы войны, смерти матери, появлении приемных родителей избегал говорить вообще.
В числе наши знакомых взрослых, преподавателей, родителей, что было тогда объяснимо, не находилось желающих поделиться с нами соображениями об изъянах общественного устройства, в котором мы жили. Очевидно, если такие желающие потенциально и имелись, то у них еще были свежи воспоминания о том, что им пришлось пережить в предвоенные годы. Не давала возможности забыть об этом борьба с учеными-генетиками, космополитизмом, врачами-убийцами, волнами накрывающая общество в первые послевоенные годы.
Вся информация, поступающая в те годы в Советский Союз извне, была, как известно, не только скудной, но и строго рецензируемой. Поэтому мы, как и большинство молодых людей, проживающих в условиях столь плотной информационной блокады и всеохватывающего воздействия партийно-комсомольско-пионерской индоктринации, мало чем, кроме, пожалуй, таких исключений, как братья Черновы, отличались по восприятию окружающей нас действительности от типичных представителей советской молодежи.
Некоторая вольность суждений, этакое показушное фрондерство, присущее в те годы нашей компании, проистекало не от широты нашего политического кругозора и объективных знаний, а были скорее производным от вольнодумства, свойственного иным молодым людям, претендующим на интеллектуальность.
Близкие товарищеские отношения с Юрием Черновым помогли лучше узнать других членов его семьи. Познакомились мы с Львом Ильичом Черновым, приемным отцом братьев, во время его визитов в Брюсов переулок, и с Константином, родным сыном Льва Ильича, четвертым братом Черновых, вернее, первым, если считать по возрасту. Константин иногда заходил к Дмитрию. Нас он замечал лишь постольку, поскольку мы были друзья Юры Чернова. Сам он прошел всю войну в разведроте, был несколько раз ранен, имел много наград, но никогда их не носил. Когда бывал в настроении, рассказывал нам немного о войне, но не о той плакатно-приглаженной, которая представлялась нам по военно-патриотическим книгам, кинофильмам и театральным постановкам, а о той настоящей – тяжелой, грязной и кровавой, через которую он прошел.
В моей памяти навсегда сохранится тот летний день 1956 года, когда Юра Чернов вошел в комнату и бросил на стол какие-то деньги и сдавленно произнес: «Мне сегодня сказали, что теперь я могу не указывать в анкетах, что мой отец был врагом народа».
Нахлынувшие воспоминания заставили меня отклониться от основной темы повествования – моих московских улиц. Хотя должен сказать, что тесные дружеские отношения с Юрием Черновым значительно расширили мои познания в истории Москвы и московских улиц.
Первая профессиональная скульптурная мастерская Юрия Чернова находилась недалеко от дома Пашкова, при слиянии Волхонки и Знаменки (бывшей улицы Фрунзе) на Боровицкой площади, рядом с правительственной трассой, ведущей в Кремль через Боровицкие ворота.
Знаменка – одна из древнейших улиц Москвы – была одной из дорог, соединяющий Кремль с речной переправой через Москву реку у села Дорогомилова, и идущей далее на Можайск и Смоленск. Сегодня Знаменка заканчивается зданием Генштаба (бывшим Александровским юнкерским училищем), выходящим на Арбатскую площадь. На противоположном конце этой улицы, на её левом «берегу», через дорогу от дома Пашкова стояло небольшое строение – одноэтажный деревянный домик, чудом сохранившееся в те годы, учитывая близость правительственной трассы.
Это ветхое строение давно снесено, но в те годы оно служило скульптурной мастерской Суриковского института. Это помещение предоставляли выпускникам-скульпторам этого учебного заведения на 3–4 месяца для подготовки дипломной работы по окончанию института. За то время, которое было Юрию здесь предоставлено, он сделал то, что другой на его месте не сотворил бы и за несколько лет: два десятка этюдов, несколько портретов, ряд набросков скульптурных композиций – и это не считая самой дипломной работы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу