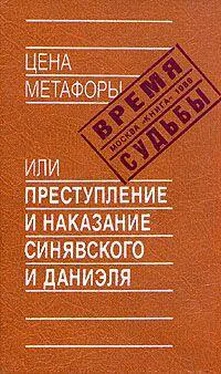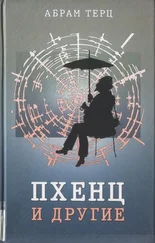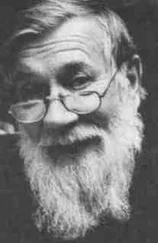С этой же целесообразностью исторических процессов связано широкое обращение нашей литературы к современной и прошлой истории, события которой (гражданская война, коллективизация и т. д.) суть вехи на избранном нами пути. Что касается далеких времен, то там, к сожалению, движение к коммунизму обнаружить несколько труднее. Но и в самых отдаленных веках вдумчивый писатель находит такие явления, которые считаются прогрессивными, потому что способствовали в конечном счете нашим сегодняшним победам. Они заменяют и предваряют недостающую цель. При этом передовые люди прошлого (Петр Великий, Иван Грозный, Пушкин, Стенька Разин), хотя и не знают слова «коммунизм», но хорошо понимают, что в будущем всех нас ожидает что-то светлое, и не уставая говорить об этом со страниц исторических произведений, постоянно радуют читателя своей поразительной дальновидностью.
Наконец, широчайший простор писательскому воображению предоставляет внутренний мир, психология человека, который изнутри тоже движется к цели, борясь с «пережитками буржуазного прошлого в своем сознании», перевоспитываясь под влиянием партии или под воздействием окружающей жизни. В значительной своей части советская литература – это воспитательный роман, в котором показана коммунистическая метаморфоза отдельных личностей и целых коллективов. Многие наши книги связаны с изображением именно этих нравственно-психологических процессов, направленных к созданию будущего идеального человека. Тут и «Мать» Горького – о превращении темной, забитой женщины в сознательную революционерку (написанная в 1906 году, эта книга считается первым образцом социалистического реализма), и «Педагогическая поэма» Макаренко – о преступниках, вступивших на путь честного труда, и роман Н. Островского, рассказывающий «Как закалялась сталь» нашей молодежи в огне гражданской войны и в холоде первых строек.
Как только персонаж достаточно перевоспитается, чтобы стать вполне целесообразным и сознавать свою целесообразность, он имеет возможность войти в ту привилегированную касту, которая окружена всеобщим почетом и носит название «положительного героя» . Это святая святых социалистического реализма, его краеугольный камень и главное достижение.
Положительный герой – это не просто хороший человек, это герой, озаренный светом самого идеального идеала, образец, достойный всяческого подражания, «человеко-гора, с вершины которой видно будущее» (так называл своего положительного героя Леонид Леонов). Он лишен недостатков, либо наделен ими в небольшом количестве (например, иногда не удержится и вспылит), для того чтобы сохранить кое-какое человеческое подобие, а также иметь перспективу что-то в себе изживать и развиваться, повышая все выше и выше свой морально-политический уровень. Однако эти недостатки не могут быть слишком значительными и, главное, не должны идти вразрез с его основными достоинствами. А достоинства положительного героя трудно перечислить: идейность, смелость, ум, сила воли, патриотизм, уважение к женщине, готовность к самопожертвованию и т. д., и т. п. Важнейшие из них, пожалуй, – это ясность и прямота, с какими он видит цель и к ней устремляется. Отсюда такая удивительная определенность во всех его действиях, вкусах, мыслях, чувствах и оценках. Он твердо знает, что хорошо и что плохо, говорит только «да» или «нет», не смешивает черное с белым, для него не существует внутренних сомнений и колебаний, неразрешимых вопросов и неразгаданных тайн, и в самом запутанном деле он легко находит выход – по кратчайшему пути к цели, по прямой.
Когда он появился впервые в некоторых произведениях Горького 900-х годов и заявил во всеуслышание: «Нужно всегда твердо говорить и да и нет!» – многие были поражены самоуверенностью и прямолинейностью его формулировок, его способностью поучать окружающих и произносить пышные монологи по поводу собственной добродетели. Чехов, успевший прочитать «Мещан», стыдливо морщился и советовал Горькому как-то смягчить крикливые декларации его героя. Чехов пуще огня боялся претенциозности и считал все эти красивые фразы хвастовством, не свойственным русскому человеку.
Но Горький в то время не внял этим советам, не побоялся упреков и насмешек шокированной интеллигенции, твердившей на разные лады о тупости и ограниченности нового героя. Он понимал, что за этим героем – будущее, что «только люди безжалостно прямые и твердые, как мечи, – только они пробьют» («Мещане», 1901 г.).
Читать дальше