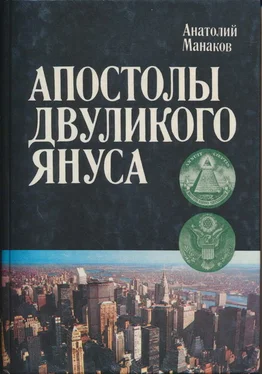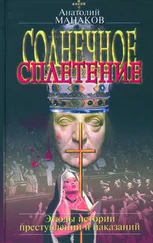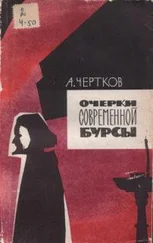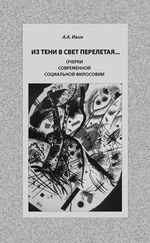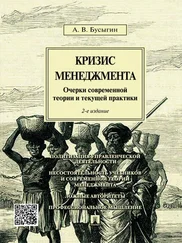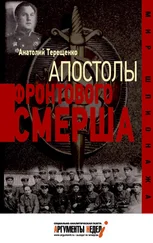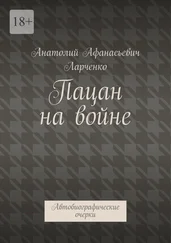В конце нашей беседы Уоррен Хинкль привел некоторые сведения, относящиеся непосредственно к бывшему государственному секретарю Хейгу. Оказывается, в середине 60–х годов тот, еще в звании подполковника, непосредственно выполнял роль координатора (между Белым домом, министерством обороны, ЦРУ и главарями кубинских наемников) подготовки покушения на Фиделя Кастро. Вот он, государственный терроризм.
СТАРЫЙ МОТИВ НА НОВЫЙ ЛАД
В Вашингтоне отчаянно принимали допинги: хотели подбодрить не только себя, но и свою политику в отношении развивающихся стран. Все те же имперские амбиции пытались прикрыть громогласными заявлениями о «новом этапе борьбы за демократию, против коммунистической экспансии». Традиционные приемы не срабатывали, на смену им брали новые, с помощью которых надеялись более эффективно проводить линию на подавление национально–освободительного движения, подрыв неугодных Америке государств. Рекламировали и соответствующие стратегические концепции по обеспечению интересов США в глобальном масштабе и активному противодействию укреплению влияния социалистических идей в развивающихся странах. Из таких концепций все более заметно складывалась и доктрина «неоглобализма».
Основные ее положения представители администрации США обозначили довольно отчетливо. Ратуя за активизацию американской внешней политики, уделяли первостепенное внимание «региональным конфликтам». По утверждению вашингтонских деятелей, именно эти конфликты являются якобы главным мотивом гонки ядерных вооружений. Основным же препятствием на пути нормализации советско–американских отношений называли «экспансионистскую» политику СССР в развивающихся странах. Посему деятельность Соединенных Штатов должна «стимулировать демократические преобразования», а поддержка Вашингтоном «борцов за свободу» в таких странах, как Кампучия, Никарагуа, Афганистан, Ангола, Эфиопия, дать толчок к «глобальной демократической революции».
В качестве метода проведения «неоглобалистской» политики предполагалось оказание военной и экономической помощи дружественным США государствам, прямой военной поддержки антиправительственным силам в странах, вышедших из–под американской опеки. Роль же «защитников демократии» поручали исполнять сомосовским головорезам, наемникам в Анголе и Мозамбике, бандитам в Афганистане, марионеткам на Гренаде.
Ничтоже сумняшеся, в сферу стратегических интересов США произвольно включали все наиболее важные в политическом и экономическом отношении регионы. Решение же конфликтов там, по американскому образцу естественно, преподносили как обязательное условие сохранения мира и установления контроля над ядерным оружием.
В основу доктрины «неоглобализма» ее создатели положили тезис о «конфликтах малой интенсивности», допускающий прямое военное вмешательство США в дела тех или иных развивающихся стран. В зависимости от конкретных условий рекомендовалось прибегать к любым методам, осуществлять широкий диапазон акций, включающий в себя традиционные средства дипломатии, проводимые спецслужбами полувоенные и психологические подрывные операции, непосредственно использовать вооруженные силы США в ходе интервенции.
«Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), безусловно, самая крупная на сегодня программа в бюджете Пентагона. Однако, если в рамках СОИ планируются военные действия в космосе, «конфликты малой интенсивности» отражают замыслы стратегов по ведению войны на суше. Готовность к такого рода конфликтам стала навязчивой идеей для вашингтонской администрации, усматривавшей «руку Москвы» в развитии событий в Центральной Америке, Ливане, на Филиппинах и в других районах мира. Пентагоновские заявки по ассигнованиям на эти цели в значительной степени напоминали первый этап участия США в войне во Вьетнаме: все большая ставка делается на увеличение контингента «зеленых беретов» и других компонентов вооруженных сил, предназначенных для осуществления специальных операций.
В конкретном выражении бюджет США на 1987 год предусматривал ассигнования в 1,7 миллиарда долларов на увеличение численности сил особого назначения. По оценке американских экспертов, к 1992 году, если намеченные планы будут осуществлены, возможности министерства обороны по переброске частей по воздуху в сравнении с 1980 годом возрастут вдвое, а по морю — в семь раз. Численность частей особого назначения увеличится на 80 процентов. Все это направлено на укрепление возможностей США по военному участию в «конфликтах малой интенсивности».
Читать дальше