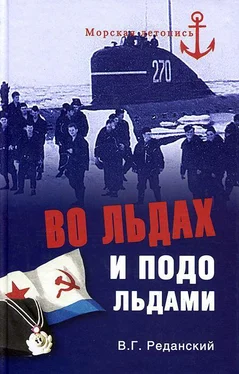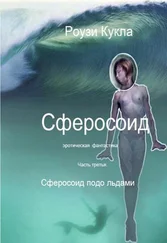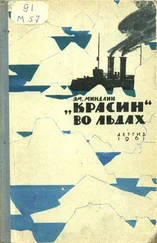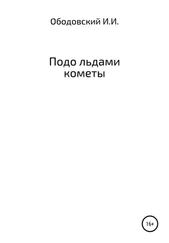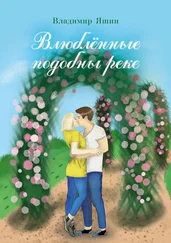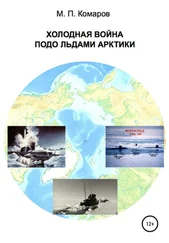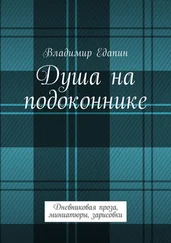Наконец, из турбинного отсека в центральный пост поступил доклад, что авария ликвидирована. Лодка снова обрела ход, погрузилась и направилась к ледяным полям.
Прошло время, и акустики услышали подозрительные шумы. Складывалось впечатление, что совсем рядом ходят корабли. На «К-3» знали, что где-то неподалеку три натовских фрегата ведут поиск советских подводных лодок. Подводники тогда и не подозревали, что акустика зафиксировала эхо своих работающих винтов, расщепленное и отраженное ледяным «подволоком» глубин океана. А эхоледомер того времени не был в состоянии «заметить» тонкий лед. К тому же перо прибора сначала вычерчивало причудливую зигзагообразную линию, потом она стала прерываться и исчезла.
«На борту у нас, — вспоминал Л.М. Жильцов, — был представитель гидрографии, член комиссии по опытной эксплуатации. Посомневался он вначале, а потом ответственно заявил: Льда нет!»
Леонид Гаврилович (командир корабля Л.Г. Осипенко. — В.Р. ), посоветовавшись со мной, принимает решение — надо всплывать, разобраться в обстановке. Ход уменьшен до самого малого, считаем, что инерция погашена. Поднимаем перископ. Вдруг толчок, скрежет» [336] Собеседник. 1987,
.
И сразу померк и без того тусклый свет в перископе. К тому же из него брызжет вода. Через некоторое время, когда стало совершенно очевидно, что над корпусом лодки чистая вода, решили всплыть. Поднялись наверх и осмотрелись. Подтвердились самые худшие ожидания: перископ лежал вдоль ограждения рубки на боку, погнутый на 90°. К тому же он накрыл все выдвижные устройства. Отчаянные попытки вернуть перископу вертикальное положение с помощью тросов и носового шпиля ни к чему не привели. Дорого обошлось и отсутствие опыта в использовании эхоледомера, и неосмотрительность при плавании в районе с дрейфующими льдами.
В Белое море вернулись 2 декабря. Командир, посмотрев на выгруженный на пирс перископ, попросил закурить, хотя год назад бросил, и обращаясь к старпому, сказал: «Приборы надо проверять заранее и верить им, верить, как своим глазам. Тогда перископом можно и не пользоваться. Мотай это себе на ус, Михалыч! Тебе наверняка плавать под полюсом». [337] * Это был последний выход в море Л.Г. Осипенко на «К-3». В том же ноябре 1959 г. он распрощался с кораблем, получив назначение на должность начальника Учебного центра в Обнинске, готовящего офицеров-атомщиков. Двадцать лет руководил контр-адмирал Осипенко этим центром. В Обнинске он и умер на 77-м году жизни. В 1988 г. обнинскому 510-му учебному центру ВМФ присвоили почетное наименование — имени Осипенко Л.Г. (См.: Красная звезда. 1998.13 января.)
В документах, характеризующих итоги боевой подготовки Северного флота на 1959 г., появится потом короткая фраза: «К-3» впервые пробыла подо льдом в течение 18 ч, пройдя 260 миль».
А всего первая советская атомная подводная лодка совершила в том году три похода продолжительностью 9, 21, 14 суток. За кормой атомохода осталась 9381 миля, из них 6850 под водой. В последнем походе «К-3» плавала в Белом, Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях.
Подводники «К-3» и других атомоходов, естественно, вынашивали мечту о походе к Северному полюсу, не раз обращаясь к этой заветной теме в своих беседах. Ставили они вопрос о таком походе и перед командованием.
Но не только их волновала проблема полюсного похода. Обсуждался он и в высоких кругах. В нашей стране стало привычным удивлять мир уникальными достижениями научно-технического прогресса: первый спутник, первая атомная электростанция, первый атомный ледокол... И вдруг такое большое отставание!
Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков вспоминал позже: «...тогда в Центральном Комитете КПСС мне был задан вопрос: можем ли мы подо льдами достичь Северного полюса? Я ответил с убежденностью, что можем. Нужно только некоторое время для всесторонней подготовки. Меня не торопили. Но уже тогда был оговорен и конкретный корабль, названный впоследствии «Ленинский комсомол» [338] Красная звезда. 1987. 10 июля.
.
Первоначально поход на полюс наметили на 1960 г. «К-3» предоставили время, чтобы привести механизмы и системы в порядок после нагрузок, выпавших на ее долю в первых плаваниях. Лодка находилась в Северодвинске на заводе, и это, казалось бы, облегчало работы. Однако они затянулись. Камнем преткновения стала система очистки воды второго контура. «Месяца три мы возились с новой системой очистки, — рассказывал много лет спустя контр-адмирал Л.М. Жильцов. — А она не действовала. И речи не могло быть, чтобы идти с ней под лед».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу