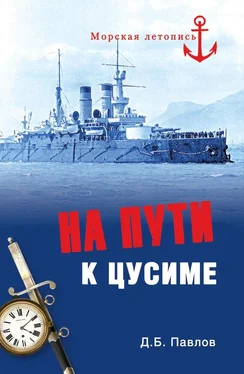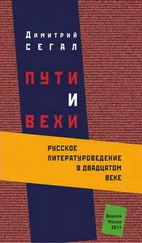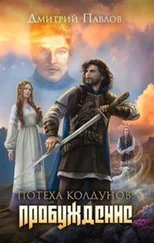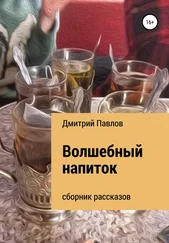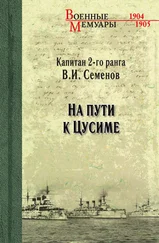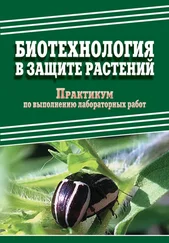* * *
15(28) октября 1904 г. в Виго Рожественский получил императорское напутствие: «Мысленно душою с вами и моею дорогой эскадрой. Уверен, что недоразумение скоро кончится. Вся Россия с верою и крепкою надеждою взирает на вас. Николай». «Эскадра единою душою у престола Вашего императорского величества», — отвечал адмирал [288].
18(31) октября из Петербурга пришло разрешение продолжить поход, ив 7 утра следующего дня армада Рожественского покинула гостеприимный испанский порт с испанским же крейсером «Эстремадура» в качестве эскорта. 23 октября (5 ноября) в алжирском Танжере эскадра разделилась: Рожественский и Энквист повели новые броненосцы и крейсера вокруг Африки, а Фелькерзам двинулся на Крит на соединение с черноморскими транспортами Радлова.
Глава V. Агентура подполковника В. В. Тржецяка
Если балтийская часть 2–й Тихоокеанской эскадры находилась на «попечении» японских дипломатических представителей в Голландии, Германии, Бельгии и Франции и их секретных сотрудников–европейцев, то организацию наблюдения за ее черноморской частью внешнеполитическое ведомство Японии поручило своему послу в Вене Макино Нобуаки, а также бывшему консулу в Одессе Ижима Каметаро, который с началом военных действий (а именно 8 февраля 1904 г. [289]) также переехал в австрийскую столицу. О том, что Вена превратилась в один из «центров военно–разведочной организации японцев», Мануйлов проинформировал Департамент полиции уже в конце марта 1904 г., и это сообщение полностью соответствовало действительности. Важную роль в наблюдении за русскими судами сыграла японская резидентура, созданная в Турции еще в конце XIX в.
Задолго до начала формирования 2–й Тихоокеанской эскадры, 13 февраля 1904 г., министр иностранных дел Комура предписал Макино организовать получение достоверной информации о русском Черноморском флоте и собирать сведения об общеполитическом положении на Балканах. Несколько ранее Макино получил указание Токио командировать Ижима в Стамбул для организации наблюдения за ожидавшимся проходом русских кораблей через Босфор и Дарданеллы [290]. Таким образом, с самого начала инициатором разведывательных операций на юге России, в Малой Азии и на Балканах выступило японское внешнеполитическое ведомство, которое действовало через своих официальных представителей в регионе. Сохранившиеся документы МИД Японии, а также позднейшие материалы русской контрразведки не оставляют сомнений в том, что в отношении судов Добровольного флота, которые базировались на Черном море, Япония «активных» мероприятий не только не пыталась осуществить, но и не планировала. Однако, чтобы убедиться в этом, России пришлось создать в Турции и соседних государствах целую нелегальную агентурную сеть во главе с подполковником Владимиром Валерьяновичем Тржецяком.
Находясь в Стамбуле, Тржецяк, в отличие от Гартинга, не мог рассчитывать не только на помощь и содействие, но даже на сочувствие турецких властей. Как справедливо отметил в одном из своих донесений в Главный морской штаб тамошний российский военно–морской атташе капитан 2–го ранга А. Л. Шванк, в Русско–японской войне симпатии султана и его приближенных находились всецело на стороне Японии [291]. Несмотря на это, организация даже простого наблюдения за движением русских судов через черноморские проливы не была для Японии легковыполнимой задачей. Дело в том, что в эти годы дипломатических отношений у нее с Турцией не существовало, и потому ее официальные представители находиться в Стамбуле не могли. Не имея дипломатического прикрытия, японские разведчики были вынуждены действовать в Турции нелегально. Посол Макино прекрасно понимал связанные с этим неудобства и предпринял попытку хотя бы де–факто «легализовать» японскую агентуру в турецкой столице. Для этого он сначала обратился к послу Турции в Вене, а затем через своего коллегу в Лондоне попытался заручиться поддержкой и внешнеполитического ведомства Великобритании. Однако ни Турция, ни Англия не пожелали идти на подобную демонстрацию в условиях Русско–японской войны. Это, однако, нисколько не мешало Англии инспирировать враждебные России демарши турецких властей, которые, в свою очередь, закрывали глаза на деятельность на своей территории японских разведчиков.
Совсем иным было отношение правительства Порты к российской контрразведке. На протяжении всей своей командировки Тржецяк сталкивался с противодействием тайной полиции султана. Возложенное на него поручение он был вынужден осуществлять под угрозой «провала», а иногда и с риском для жизни, даже несмотря на то, что, согласно международным договорам, русские подданные в Турции в административном и судебном отношениях находились в ведении своего консула и не могли быть арестованы местной полицией без ведома последнего. «Полиция и общественное мнение враждебно к нам, и обстановка, в которой приходится работать, далеко не благоприятна […], — сообщал Тржецяк в первые же дни своей стамбульской жизни. — Город переполнен дворцовыми шпионами, и нам приходится очень их побаиваться» [292]. «У нас тут на улице по ночам постоянно режут, — жаловался он месяц спустя, — и нанять убийцу возможно по очень сходной цене». Такой убийца действительно был кем‑то нанят, и в декабре 1904 г. в Тржецяка наулице стреляли из револьвера, но, к счастью, неудачно. Ко всему прочему осенью 1904 г. в Турции разразилась эпидемия черной оспы, которая унесла жизнь одного из русских наблюдательных агентов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу