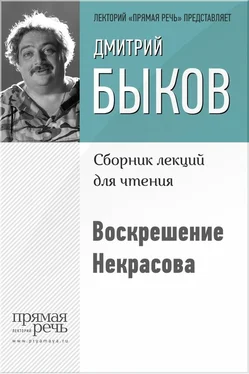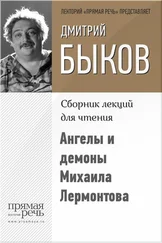Есть здесь какие-то логические причины? Нет, абсолютно. Мы не можем Некрасову простить этого фольклорного, дохристианского, очень крестьянского, на самом деле, отношения к жизни: Бог дал – Бог и взял, как в этом стихотворении знаменитом про погорельцев. Нет виновного, нет закона, есть судьба и ужас – и ничего кроме. А утешаться можно только достаточно соленой народной шуткой, в чем Некрасов тоже был большой мастер.
И вот, пожалуй, самое точное стихотворение о русской судьбе – это гениальная баллада «Выбор», тоже очень фольклорная по своему духу. Сейчас ее вспомнить – милое дело:
Ночка сегодня морозная, ясная.
В горе стоит над рекой
Русская девица, девица красная,
Щупает прорубь ногой.
Тонкий ледок под ногою ломается,
Вот на него набежала вода;
Царь водяной из воды появляется,
Шепчет: «Бросайся, бросайся сюда!
Любо здесь!» Девица, зову покорная,
Вся наклонилась к нему.
«Сердце покинет кручинушка черная,
Только разок обойму,
Прянь!..» И руками к ней длинными тянется…
Синие льды затрещали кругом,
Дрогнула девица! Ждет – не оглянется —
Кто-то шагает, идет прямиком.
«Прянь! Будь царицею царства подводного!..»
Тут подошел воевода Мороз:
«Я тебя, я тебя, вора негодного!
Чуть было девку мою не унес!»
Белый старик с бородою пушистою
На́ воду трижды дохнул,
Прорубь подернулась корочкой льдистою,
Царь водяной подо льдом потонул.
Молвил Мороз: «Не топися, красавица!
Слез не осушишь водой,
Жадная рыба, речная пиявица
Там твой нарушат покой;
Там защекотят тебя водяные,
Раки вопьются в высокую грудь,
Ноги опутают травы речные.
Лучше со мной эту ночку побудь!
К утру я горе твое успокою,
Сладкие грезы его усыпят,
Будешь ты так же пригожа собою,
Только красивее дам я наряд:
В белом венке голова засияет
Завтра, чуть красное солнце взойдет».
Девица берег реки покидает,
К темному лесу идет.
Села на пень у дороги: ласкается
К ней воевода-старик.
Дрогнется – зубы колотят – зевается —
Вот и закрыла глаза… забывается…
Вдруг разбудил ее Лешего крик:
«Девонька! встань ты на резвые ноги,
Долго Морозко тебя протомит.
Спал я и слышал давно: у дороги
Кто-то зубами стучит,
Жалко мне стало. Иди-ка за мною,
Что за охота всю ноченьку ждать!
Да и умрешь – тут не будет покою:
Станут оттаивать, станут качать!
Я заведу тебя в чащу лесную,
Где никому до тебя не дойти,
Выберем, девонька, сосну любую…»
Девица с Лешим решилась идти.
Идут. Навстречу медведь попадается,
Девица вскрикнула – страх обуял.
Хохотом Лешего лес наполняется:
«Смерть не страшна, а медведь испугал!
Экой лесок, что ни дерево – чудо!
Девонька! глянь-ка, какие стволы!
Глянь на вершины – с синицу оттуда
Кажутся спящие летом орлы!
Темень тут вечная, тайна великая,
Солнце сюда не доносит лучей,
Буря взыграет – ревущая, дикая —
Лес не подумает кланяться ей!
Только вершины поропщут тревожно…
Ну, полезай! подсажу осторожно…
Люб тебе, девица, лес вековой!
С каждого дерева броситься можно
Вниз головой!»
Эта баллада не зря называется «Выбор», потому что каждая попытка спасения оборачивается новой гибелью, и это очень по-русски и очень по-некрасовски.
Что же нас в этом утешает? Утешает нас, как ни странно, вот эта самая амбивалентность и умение в какой-то момент критический усмехнуться, посмеяться над этим, перемигнуться перед смертью. И Некрасов ведь, строго говоря, не потому так любил народ, что жило в нем народническое убеждение, будто в народе есть какие-то вековые нравственные начала. Некрасов, в отличие от Толстого, с этим народом был по-настоящему близок, он с ним охотиться ходил, он с ним любил выпить, он с ним в беседах проводил довольно много времени. А Толстой, по воспоминаниям яснополянских крестьян, в какой-то момент все-таки говорил: «Не подходите ко мне, я граф». В Некрасове этого совершенно не было, да он и графом не был. Он достаточно просто относился к русскому мужику. И когда, измученный болезнью, болезнью мучительной и некрасивой, раком прямой кишки, Некрасов в 1875 году собирался застрелиться от боли, он сказал об этом только егерю, другу своему, который и вырвал у него ружье. И после операции прожил еще два, пусть мучительных, но, страшно сказать, плодотворных года. То есть были вещи, о которых он только с этим народом мог говорить. Разумеется, не в силу того, что ему было присуще абстрактное народолюбие. А в силу того, что он с этим народом абсолютно совпадал в главном – в презрении к смерти, в этой нравственной амбивалентности, которая позволяет выдержать очень многое, в этой насмешке над горем, в умении смеясь это горе переносить. Кроме того, есть у Некрасова еще одно удивительное, тоже роднящее его с народом чувство, затрудняюсь в его определении. Можно назвать его азартом, азарт ему очень был присущ. Можно – форсом, и форс какой-то в этом действительно есть. Вызовом, эпатажем, умением бросить в лицо врагу не просто «железный стих, облитый горечью и злостью», а циническую шутку, умение выпендриться перед концом. Вот это мне очень нравится. Особенно нравится, конечно, в «Русских женщинах». В гениальной поэме, написанной рыцарски для того, чтобы дать возможность русскому читателю читать недоступный на родине текст, под прозрачными псевдонимами зашифровав главных героинь, опубликовать русские стихотворные переложения французских текстов, известных только в заграничной публикации… Тысячи людей, не читавших ни «Бабушкиных записок», ни воспоминаний Трубецкой, знают их в некрасовской формуле. И вот это останется с нами навсегда:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу