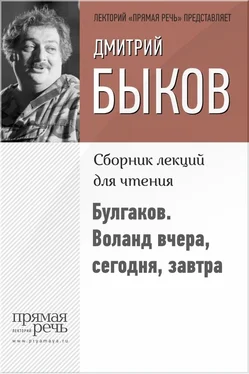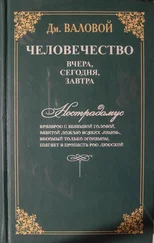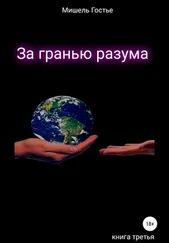А как же Иешуа Га-Ноцри? – спросит читатель, который так любит евангельские главы романа. Наверное, евангельские главы романа, во всяком случае, по словесной их чеканке, абсолютно совершенны, действительно лучшее, что есть не только в этом романе, но и в советской прозе. Тем не менее Мирер в своей работе "Евангелие Михаила Булгакова" очень подробно разбирает эти главы и доказывает, показывает на примерах, чем же Иешуа отличается от Христа. Иешуа – это прежде всего человек, а не богочеловек. Иешуа – тот спаситель, который никого не спас. Кстати, Мирер расшифровывает знаменитые слова о том, что страшнейшим из всех пороков является трусость. Они явственно обращены к Пилату, который убоялся политического намека, убоялся доноса Каифы, потому что слова Иешуа подрывают честь императора Тиберия, лучше власти которого нет, не может быть и никогда не будет на земле.
Но Мирер совершенно отчетливо показывает и другое. Именно Пилат в романе Булгакова предстает носителем второй ипостаси Христа. Ведь Христос приходит, принося не мир, но меч. Христос творит чудеса, иногда жестокие чудеса – как со смоковницей. Христос приносит весть о бессмертии и олицетворяет огромную непобедимую силу. Так вот, в облике Иешуа Га-Ноцри все время подчеркивается хрупкость и слабость – Спаситель, который никого не спас. А спаси нас, пожалуйста, ты, ты – необходимое и полезное зло. Ты – Пилат, который подбросит Каифе окровавленные сребреники в мешке, ты, который накажет Иуду (есть у него в этом городе и другие поклонники, кроме тебя), тот, который попытается облагодетельствовать Левия Матвея. Власть – вот единственная сила, единственная вообще структура, которая может что-то поделать с этими людьми. Если с этими людьми добром пытаться что-то поделать, как с Марком Крысобоем, все кончится крестом. А вот если попытаться как Пилат, если Пилат правильно прочитает роман, то, глядишь, что-нибудь и получится.
Вот эта литературная стратегия обращения к королю, обращения к единственному и главному читателю вполне очевидна, потому что Булгаков заимствовал ее у Мольера. Ведь он не просто так взялся за жизнеописание Мольера. Вечный вопрос – почему Булгаков в расцвете сил и таланта в 1930-е годы, вместо того, чтобы пытаться как-то приноровиться к серии ЖЗЛ с другими историческими фигурами, так настаивает именно на Мольере, так много занимается Мольером? Ведь, в конце концов, напиши он о ком-нибудь другом, ну, хоть книгу о Толстом, напиши он хоть о Лермонтове, хоть о любимом Гофмане своем, все могло бы получиться, и взяли бы ее в серию ЖЗЛ. А он написал, и не взяли. И "Жизнь господина де Мольера" осталась дожидаться 1962 года. Почему? Да потому что тактика, литературная стратегия Булгакова – абсолютно мольеровская. Она заключается в том, чтобы говорить правду двору и апеллировать к королю.
Надо сказать, что Булгаков, как человек Серебряного века и, больше того, как врач, вообще не очень высокого мнения о человеческой природе. Эта мысль, к сожалению, весьма редко приходит в голову его читателю, потому что это мысль циничная, мысль трезвая. Но Булгаков не шибко-то любит людей. Мы прекрасно понимаем, что Булгаков, безусловно, любит художников. Художники для него главные. Он любит воинов. Таких, как Алексей Турбин. Он любит женщин, таких, как Елена, женщин, наделенных еще, помимо огромного обаяния, культом семьи, умением выстраивать этот мир под абажуром. Никуда не уходите, сидите под абажуром. Ему нравится тип сильной, властной женщины, тип той же Маргариты…
А просто человек, просто мещанин, трусливый обыватель, какой-нибудь Тальберг – все это для него довольно мелкая порода. А Римский? А Варенуха? А Лиходеев? А подавляющее большинство москвичей, которых испортил квартирный вопрос? А Бенгальский? А Берлиоз? Ну, в Бездомном есть что-то от художника, поэтому Бездомный прощен, но тоже не ахти персонаж. "Человечинка" – то самое, что говорит Сталин у Леонова. Человечинка. Материал. Идея, кстати, очень горьковская. Потому что по Горькому все должно стать еще пока материалом для переплавки. Человек – это есть еще только его попытка, его стремление быть человеком.
Ницшеанские мысли Серебряного века очень для Булгакова важны. Он же весь из этой среды, из среды столичной, московской, киевской, петербургской интеллигенции, на глазах у которой совершалось дело Бейлиса, на глазах у которой демократия в России восторжествовала, на глазах у которой победил плебс. Отношение Булгакова к массе – это во многих отношениях копия его взглядов на Шарикова. Все они, в большинстве своем шариковы. Все они – те гады, которых разбудил красный луч. И ничего они особенного не заслуживают. И поступи ты с ними, пожалуйста, так, как они заслуживают того.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу