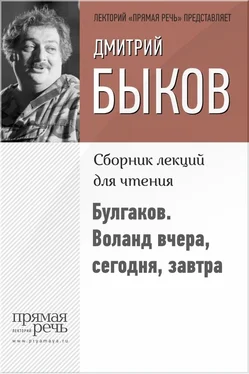И вот что интересно. Вот этим открытием я, пожалуй, горжусь. Слово "мастер" не появлялось в прозе и драматургии Булгакова нигде и никогда до романа "Мастер и Маргарита". Появляется оно, правда, единственный раз в "Театральном романе", там упоминается малоприятный сосед автора – мастер. И еще там же герой читает в газетной заметке: "…Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович". Слово имеет резко негативный оттенок.
"Мастер" – слово, появившееся в черновиках романа после 1934 года, после того, как стало главным положительным термином, главной восторженной оценкой в устах Сталина. Надо сказать, что слово «мастер» вообще вызывало резко негативные реакции у большинства советских и российских художников. Потому что "мастерство" – это достаточно ругательное слово. Лев Толстой говорил: "Настоящее мастерство в том, что мастерства не видно". Мастер – это ремесленник, профессионал.
Когда Мандельштам услышал, что это слово было произнесено Сталиным, он в ужасе отшатнулся. «Ну, какой же я мастер, в самом деле?» Вот он, сидя с карандашом, впервые после Воронежа взялся писать (обычно, как вы знаете, Мандельштам наборматывал, диктовал) оду Сталину. Выражалось это в том, что он полчаса сидел, делая вид, что работает, потом вскакивал и кричал: "Нет, нет, я не мастер! Я не могу быть мастером, вот Сельвинский бы давно уже все написал!" И действительно так бы и было. Сельвинский был мастер при всем при том, а Мандельштам – совсем другое явление, гораздо более высокой породы. Мастер – этот то, кто хорошо выполняет искусственно полученное задание. Мастер – это профессионал. А художник остается художником до тех пор, пока он непрофессионал, пока он отыскивает какие-то новые пути и возможности.
Можно ли сказать, что Пастернак был мастером, например, в "Сестре моей – жизни"? Да боже упаси! Он вступил на территорию, на которую до него не вступали, он попытался писать исторический эпос через личный быт, через личную влюбленность и сделать все это на юношеском жаргоне 1917 года. И, конечно, там масса не то что провалов в смысле мастерства, а возмутительных несоответствий, смешных совершенно. Если, как делал это, скажем, Георгий Адамович, если попытаться переписать стихи Пастернака прозой, мы получим такой невыносимый бредовый набор, что уж какое там мастерство. Ничего подобного! Мастерство вообще враждебно искусству, потому что мастерство оформляет его. Однако для Сталина это главный критерий: а профессионал ли он? Он спрашивает Пастернака в знаменитом, известном всей Москве разговоре о судьбе Мандельштама: «Но он мастер? Мастер?» На что Пастернак дает единственно возможный ответ: «Дело совсем не в этом. Нельзя сажать ни за плохие, ни за хорошие стихи». Это совершенно верно. Но Сталина интересует не это . Сталина интересует ремесленная ценность объекта. И чтобы доказать Сталину, что художника надо беречь, Булгаков переименовывает своего Художника в Мастера.
Тут возникают самые бредовые аналогии, об этой книге написано больше ерунды, чем о любом другом русском романе. Есть подробная, аргументированная, внятная работа, где доказывается, что «М», вышитое на шапочке Мастера, это Максим Горький и судьба Горького очень хорошо накладывается на судьбу Мастера. Есть версия, что Мастер – это Мандельштам. Есть версия, что Мастер – это Булгаков. Все эти версии совершенно не верны. Мастер – это образ художника, нарисованный так, чтобы Сталину он был понятен и приятен. Это художник, доведенный до правильного состояния.
Человек, находящийся в психушке, сломавшийся, не переносящий никаких звуков, ни громких, ни тихих: "Больше всего я ненавижу человеческий крик: будь то крик горя, радости или какой-либо иной крик". Это человек, который, в сущности, растоптан и ждет только благодетельного снисхождения. При этом он мастер, конечно, он крепкий профессионал. Профессионализм не пропьешь – это последнее, что остается. Мастер – это тот автопортрет художника, который Сталину желательно было видеть, и послание романа совершенно очевидно: мы понимаем, что ты – зло, и сам ты не можешь не понимать, что ты – зло; ты пришел как суд, который мы заслужили.
Идея заслуженного суда тоже чрезвычайно популярна у мастеров Серебряного века. Все каялись до всякого наказания: "Все мы бражники здесь, блудницы, // Как невесело нынче нам… //А та, что сейчас танцует,// непременно будет в аду». Все пришло от Серебряного века. Конечно, ты – тот чародей, которого мы вызвали, ученик чародея вызвал на свою голову, мы тебя заслужили, ты обязан делать то, что ты делаешь, твое место на земле онтологично, твое место на земле общеизвестно. Но, пожалуйста, при этом береги Художника и все будет хорошо. Как ни ужасно, но послание романа вполне сводится к этому.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу