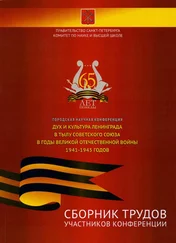В начале 1813 года, сообщает Попов, поручая вниманию графа Ф. В. Ростопчина одного английского капитана, отправлявшегося в Россию, граф М.С. Воронцов писал: «Он едет, чтобы вблизи посмотреть на народ, который превзошел все современные и прежние народы своим великодушием, доблестью, постоянством и любовью к Отечеству. К кому лучше могу направить его, как не к тому, кто был главною причиною, вызвавшею эти доблести… Я ни с кем не могу вас сравнить, кроме князя Пожарского, но ваш подвиг еще труднее».
Примечателен ответ, в котором Ростопчин отклоняет от себя эти похвалы: «Вы хвалите мою любовь к Отечеству; но сколько же лиц, которые превзошли меня! Крестьяне, которые сами жгли свои избы; отец, приведший ко мне двух сыновей и отдавший их на защиту Отечества; старуха, приведшая ко мне двух сыновей и внука и говорившая им: «Да будете вы прокляты, если не истребите злодеев»; один слуга, выстреливший в Мюрата на Арбате, полагая, что это Бонапарт и убивший какого-то полковника; крестьянка, которая зажгла дом в той мысли, что там ночует это чудовище. Двое последних поплатились жизнью за свою преданность. Вот герои! Позавидуем им, и будем считать себя счастливыми, что принадлежим к их соотечественникам».
Переехавший жить в Париж в 1816 году (до 1823 года) граф Ф. В. Ростопчин (1763–1826) всегда молчал, когда речь заходила о пожаре Москвы, поддерживая уже сложившееся мнение о своей роли в ней.
Но когда в английских журналах в 1822 году появилось сообщение, что сэр Роберт Вильсон «помогал графу Ростопчину привести в исполнение задуманное им намерение сжечь столицу», Ростопчин тотчас поместил опровержение. Известно также, что на лечении в Бадене в 1817 году «однажды вечером у Тетенборна он начал насмехаться над теми, которые воображают, что возможно сжечь огромный город, как на театральной сцене сгорает Персеполис от руки Тайсы.
«Я поджег дух народа, – говорил он, – и этим страшным огнем легко зажечь множество факелов». Затем он объяснил, какие принимал меры, как генерал-губернатор: велел вывезти пожарные трубы, открыл тюрьмы и вообще распоряжался с тою целью, чтобы французам оставить не город, наполненный всеми средствами для существования, а место запустения, и, наконец, решительный пример, который он дал сам, когда сжег свой дом в подмосковной деревне».
«Но всего смешнее, – говорит он в письме 1816 года своей дочери, – что моя так называемая знаменитость основана на Московском пожаре, событии, которое я… вовсе не приводил в исполнение, и никто не говорит ни слова… о героизме народа».
Но за три года до своей смерти, в 1823 году, в Париже, Ростопчин все же решил сказать «Правду о Московском пожаре», издав это свое сочинение, вызвавшее всеобщее удивление не только русских, но и иностранцев, поскольку в нем он впервые публично отказывался от чести сожжения Москвы. «Общее мнение не только во Франции, но и повсюду, – говорилось в парижской прессе, – приписывало сожжение Москвы графу Ростопчину по приказанию правительства… Но вот наконец появилась Правда о Московском пожаре… Граф Ростопчин уверяет, что пожар Москвы не был его делом, что он не задумал его и не приготовил… Всем известно, какие были последствия этого достопамятного происшествия и какое оно имело влияние на судьбы Европы. Самые просвещенные умы считали его не только главнейшею причиною спасения России, но и падения Наполеона. В зареве Московского пожара уже виднелась Св. Елена…
Действительно, графу Ростопчину, и нельзя было бы удивляться, что его имя в общем мнении Европы связалось неразрывно с пожаром Москвы на основании ложного предположения, будто Москва была сожжена по распоряжению правительства». Но такого распоряжения в действительности не было, и «граф Ростопчин действовал в этом случае лично, а не как представитель правительства. Но граф Ростопчин в своей Правде отказывается и от этого…»
Но если не он, то кто же тогда сжег Москву?
«Первые пожары произведены были, – говорит Попов, – полицейским чиновником Вороненкою, исполнявшим приказания графа Ростопчина, который, вероятно, для облегчения совершить опасное (почти в виду неприятеля) предприятие, указал ему на разрывные снаряды, приготовленные Леппихом для воздушного шара».
Однако еще до вступления в Москву неприятеля, по словам Ростопчина, в разговорах с купцами, мастеровыми и людьми из простого народа ему «приходилось слышать следующее выражение, когда они с грустью заявляли опасение, что Москва может достаться в руки неприятеля: лучше ее сжечь! Во время моего пребывания в Главной квартире князя Кутузова я видел многих москвичей, спасшихся из столицы после пожара, которые хвалились тем, что сами сожгли свои дома». Это последнее показание подтверждают и другие свидетели-очевидцы. «Бывшие в Тарутинском лагере, конечно, помнят точно так же, как и я помню, – говорит И. П. Липранди, – что московские выходцы рассказывали, как они сами и другие москвичи поджигали свои дома и лавки перед тем, чтобы уйти из ней».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу