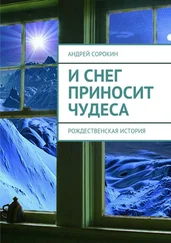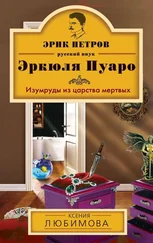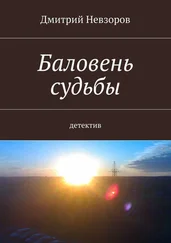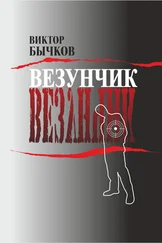В России закон в лице государства (самодержавия или власти Компартии) всегда стоял вне общества. Лишь небольшая часть граждан могла принимать участие в формировании законодательной базы государства. Остальные были по закону отлучены от гражданских инициатив и пребывали внутри своих родовых коллективов, руководствуясь не правосознанием, а общинной моралью. Власть всегда репрессивно реагировала на любое проявление общественной инициативы, в которой традиционно видела источник подрывной силы. В России, в государстве с феодальной политической системой, всесильной бюрократией (в чьих руках находилась социальная инициатива), было невозможно формирование гражданского общества с его идеями о ценности, автономии и неприкосновенности личности, частной сферы, приоритете закона. Это было рáвно невозможно как во времена Российской империи, так и в советские времена.
Развитие гражданского общества приводит к формированию демократического государства. Но для развития гражданского общества необходимы граждане, свободные граждане с развитым правосознанием. Социальные, общественные движения граждан являются необходимым условием развития демократии. Многочисленные исследования доказывают, что если в обществе не могут сформироваться общественные движения, то в нем развиваются насилие, саморазрушение в масштабах личности и государства. В отсутствии общественных движений происходит огосударствление общественной и частной жизни – всё берется под контроль государства, что и происходило практически на всем протяжении истории государства Российского.
Поэтому и не сформировалась в недрах этого государства зрелая, граждански активная, политически грамотная и с развитым правосознанием личность в таких масштабах, которые бы привели к кардинально иному государственному строю. Авторитарная власть возможна только в государствах с гражданами, у которых неразвито личностное сознание. А демократия участия появляется тогда, когда рождается свободная и разносторонне развитая индивидуальность, политически сознательная личность, человек социальный вне его сословной, конфессиональной, расовой, национальной и половой принадлежности. Как писал Н. А. Бердяев, необходимо освобождение от рода, автономизация, отделение индивида от родового начала, становление свободной персоны, личности, чтобы не был возможен возврат к ситуации поглощенности лица миром и личности родом.
Появление такой личности возможно в государстве с развитой правовой базой, где права граждан определяются и охраняются законом. Закон – это записанные требования государства к гражданам, находящимся под юрисдикцией государства. Многие исследователи полагают, что от классического законодательства обществ-до-модерна закон модерна отличается тем, что он не выписывает идеальной картины мира (например, по типу религиозной или коммунистической) на страницах своих кодексов, но регулирует те социальные отношения, которые уже существуют в обществе. То есть эти три процесса идут параллельно и в связке друг с другом: развитие общества в сторону правового государства, развитие правосознания у граждан этого государства и формирование, совершенствование законодательной базы данного государства.
Формально Россия после перестройки и обретения независимости является правовым государством, в котором основными принципами общественного благоустройства являются принципы равенства, защиты личности или прав человека, свобода. Но это формально, а на деле, если посмотреть на законы и акты, которые принимаются и вступают в силу с 2012 года, можно увидеть, что они не только нарушают презумпцию равноправия граждан перед законом, но и отсылают к практике из обществ-до-модерна, когда используются неюридические термины и когда в основе законов лежат иррациональные страхи вместо рационального объяснения уже существующей реальности. Например, страх «перестать быть гетеросексуалом под воздействием внешней пропаганды» рационально объяснить достаточно тяжело, и найти в социальной реальности примеры такого обращения из гетеросексуала в гомосексуала невозможно. То есть в законе делается предположение о некой несуществующей социальной реальности, ведь сложно найти подтверждение того, что навязывание сексуальности российским школьникам действительно имеет место. Еще более иррациональные и оторванные от социальной реальности обоснования можно найти в процессе по делу Pussy Riot, когда суд обращался к постановлениям Трулльского собора 691—692 гг. Тот же иррациональный страх чувствуется и в законе о введении статуса «иностранного агента» для НКО.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу