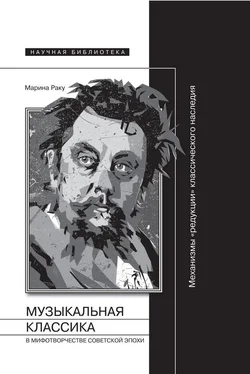Как указывает Михайлова, уже клавир Ламма не отделял текст одной редакции от другой: «Идея о единстве двух редакций и сквозной линии народных сцен в качестве основного ‘‘стержня’’ произведения – именно такой вариант драматургии Б.В. Асафьев считал ‘‘подлинным’’ замыслом автора» 148. Купюры текста первой авторской редакции, сделанные самим Мусоргским для второй редакции, рассматривались теперь как «вынужденные», возникшие «под давлением» театральной дирекции 149.
В результате, как констатирует исследовательница, «спектакль ленинградского Академического театра оперы и балета представил поистине народную музыкальную драму. Но драму, которую Мусоргский не писал» 150.
Кампания по поискам «аутентичного» Мусоргского продолжалась и далее 151. В русле современнической стратегии также шла работа по продвижению «нового» «Бориса» на Запад, изрядно затрудненная проблемой авторских прав. В ней принимали активное участие авторы авангардного по своей направленности журнала «Musikblätter des Anbruch» Асафьев и Ламм, а также Мясковский и Николай Малько, ставший в результате за пульт премьерного радиоспектакля по обновленной партитуре Мусоргского, переданного из Берлина 26 февраля 1932 года 152. Однако в самой России в ближайшие десятилетия эта художественная акция продолжения не получила.
В полном согласии с установкой на воспитание «нового зрителя» в советской России предполагалось «приучить» его к новому звучанию «Бориса» и к его новым размерам. Ученик и коллега Асафьева по Российскому институту истории искусств Р.И. Грубер 153отчитывался со сдержанным оптимизмом:
В первой половине 1928 года КИМБ (Кабинет изучения муз. быта при Музо ГИИИ) <���…> последовательно взял под наблюдение постепенное внедрение в музыкальное сознание ленинградского обывателя «Бориса Годунова» Мусоргского в авторской редакции, начиная с генеральной репетиции и кончая последними весенними спектаклями. Результаты таких обследований дали в значительной степени удовлетворительный итог 154.
Статьи Асафьева, «обрамлявшие» ленинградскую постановку, уже в 1930 году были выдвинуты на роль неких руководств для советских постановочных бригад:
Там же даны и руководящие принципы для новых постановок, что в данном случае облегчает нашу задачу 155.
Однако «первая авторская редакция как целостное произведение в 1920-х годах на сцене так и не появилась. Вновь найденные фрагменты и сцены стали включаться в спектакли, образовывая при этом драматургические версии, самому Мусоргскому никогда не принадлежавшие» 156. 1930-е годы, по наблюдению Е. Михайловой, предложили различные контаминации авторских редакций и партитур Мусоргского и Римского-Корсакова. Характерно, что «многие периферийные театры в конце 1930-х годов не решаются завершать оперу сценой бунта под Кромами (требование, бывшее почти обязательным для 1920-х годов), жертвуя при этом логикой общей сюжетной канвы, не говоря уже о музыкальной драматургии» 157.
В послевоенном фильме «Мусоргский» 158Г. Рошаля идеологическая оценка вопроса о редакциях согласуется с принятой сценической практикой контаминаций. Во время сочинения первой версии в ответ на предложение конформистски настроенного Римского-Корсакова (А. Попов) ввести в оперу любовный дуэт Мусоргский (А. Борисов) отвечает: «А зачем мне в “Борисе” любовь?» Отвергает он и предложения друга сделать более пышной инструментовку сцены коронации. После того как театральная дирекция не принимает первую редакцию, Мусоргский внезапно соглашается переработать оперу, но мотивирует решение не давлением извне, а возможностью через введенную в сюжет Марину Мнишек показать Самозванца как предводителя польской интервенции. Появляется и Сцена под Кромами, увидев которую царский сановник кричит на директора Императорских театров Гедеонова: «Это революция, а не опера!» Образ несколько мягкотелого Римского-Корсакова явно меркнет на фоне бескомпромиссного и лишенного каких бы то ни было человеческих слабостей Мусоргского. Первый женится на энтузиастке нового искусства Н. Пургольд, второй, будучи неравнодушен к ее сестре, влюбленной в него самого и в его творчество, дает обет преданности искусству и на киноэкране категорически не изменяет ему. Вмешательство Римского-Корсакова в партитуру, расценивавшееся в разные времена то как подвиг дружбы, то как неблаговидный поступок, просто остается за скобками повествования.
В следующей костюмно-исторической кинобиографии Рошаля «Римский-Корсаков» 159участие Римского-Корсакова (Г. Белов) в продвижении опер Мусоргского на сцену уже весьма уважительно упоминается В. Стасовым (Н. Черкасов). Да и сочиняет Корсаков непосредственно «под приглядом» Мусоргского, чье фото водружено на его письменном столе. Имя Мусоргского возникает и в споре Корсакова со своим учеником Глебом Раменским, под именем которого выведен Игорь Стравинский. Раменский, только что вернувшийся из Парижа и демонстрирующий учителю свою новую «неблагозвучную» и «модернистскую» (по определению Корсакова) музыку, призывает идти вперед, прочь от «бурлаков» и героев Мусоргского и выслушивает в ответ гневную отповедь Корсакова. На антитезе модернизм «Мира искусства» / реализм «Могучей кучки» строится основная коллизия этого фильма, одним из воображаемых участников которой остается незримо присутствующий за спиной Корсакова Мусоргский.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу