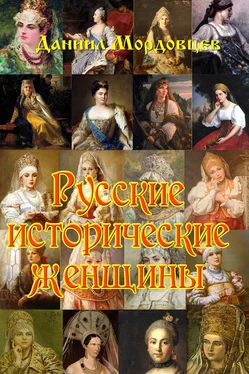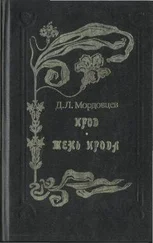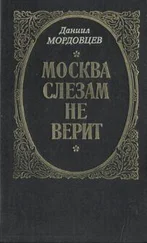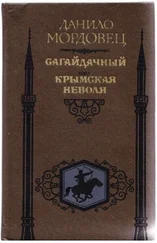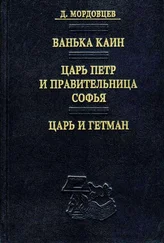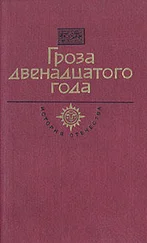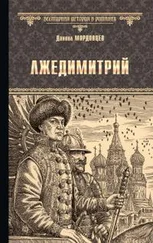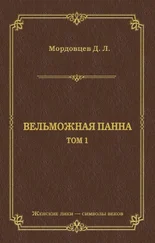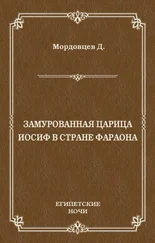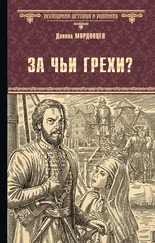Лет через десять после этого (957 г.), мы уже видим Ольгу в Константинополе, где она принимала крещение, так как до того времени и она и вся русская земля состояли в язычестве. Что привлекло эту смелую язычницу и, как, конечно, смотрели на нее византийцы, почти дикарку в этот далекий и блестящий город, в центре тогдашней цивилизованности и роскоши – неизвестно, если не допустить, что она именно поехала затем, чтобы принять христианство. Последователей его она могла уже видеть на Руси, так как русские воины и русские торговые люди, отправляясь в Константинополь или на службу к византийским императорам, или для торговых дел, иногда возвращались оттуда уже не язычниками, а христианами и могли хвалить новую религию. Быть может, ее тянуло туда любопытство – лично взглянуть на те чудеса столицы цивилизованная мира, на то великолепие, на ту блестящую и своеобразную жизнь греков, хитрейших из людей, на их храмы и дворцы, о чем она могла слышать еще от своего мужа и от его послов, лично бывших в Константинополе для заключения известного договора с греками. Для варваров, каковыми были тогда русские, столица греков могла представлять что-то сказочное, действительно поражающее и заманчивое, и всякий, кто бывал в том сказочном царстве, мог гордиться и возвышаться перед другими русскими тем, что он видел такие чудеса, о которых варварам и не грезилось.
Как бы то ни было, Ольга отправилась в Царьград с большою свитою. С нею был её племянник, послы, гости, знатные женщины, переводчики, священник и служанки. Сношения Руси с Византией были уже в то время делом весьма обыкновенным; дорога в Царьград была известна русским с самых первых походов варягов; греки живали и торговали в русской земле и русские люди бывали и живали в Византии; были уже и переводчики, знавшие оба языка – все это облегчило и подкрепило решимость смелой русской женщины предпринять путешествие в столицу образованного мира, о которой позднейшие русские женщины, почти не выходившие из терема, могли знать только по наслышке или знали меньше, чем варвары времен Игоря и Ольги.
В Византии царствовали в это время императоры Константин Багрянородный и Роман. Первый из них и оставил нам описание как приёма Ольги в Царьграде, так и церемоний, которыми сопровождался при византийском дворе этот прием. В самой церемонии греки хотели было высказать то различие, какое они полагали между особами императорского дома, преемниками римских цезарей и Августов, и между представительницею северных варваров, русскою княгинею. Но русская женщина, правительница того народа, который нередко заставлял уже дрожать гордых византийцев в своих роскошных дворцах, когда русский народ этот облагал своими бесчисленными ладьями столицу цивилизованного мира и опустошал византийское царство, – с своей стороны показала царственный такт, не дав грекам возможности унизить её самолюбие. Так, когда в церемониях приёма ей отвели место по-видимому наравне с женами знатных византийских придворных, Ольга сама выделилась из них, и когда, при входе императрицы, знатные гречанки приветствовали ее тем, что, по восточному обычаю, падали ниц, Ольга выразила это приветствие только легким поклоном.
Предание говорит, что византийский император предложил Ольге свою руку, вероятно, рассчитывая этим браком привлечь на свою сторону могущественных северных варваров и сделаться обладателем русской земли, столь страшной тогда для византийской империи и заманчивой своими естественными богатствами, но Ольга перехитрила и цивилизованного императора, как она уже не раз перехитрила своих полудиких соседей, древлян. Она отвечала императору, что не отказывается быть его женою, но только просила, чтобы ее прежде окрестили и чтобы император был её восприемником от купели. Император исполнил её требование; но когда после совершения крещения он возобновил свое предложение о браке с Ольгою, русская княгиня, уже достаточно наставленная в догматах христианской религии, напомнила ему, что, по христианскому закону, крестный отец не может жениться на своей крестнице.
– Ольга! ты перехитрила («переклюкала») меня! – воскликнул император, которого не могла не поразить эта находчивость полудикарки, какою он естественно мог считать Ольгу в своей цивилизованной гордости.
Когда Ольга возвращалась потом из Цареграда, император, отпуская ее, одарил свою крестницу «богатыми дарами», которые, впрочем, с точки зрения нашего времени, могли бы показаться очень скудными, что называется «мещанскими»: так в один раз он подарил русской княгине с небольшим сорок червонцев, в другой – около двадцати.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу