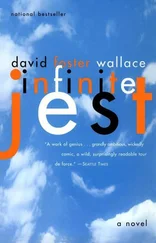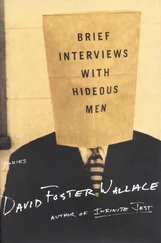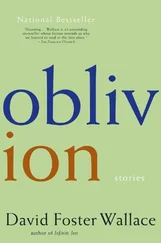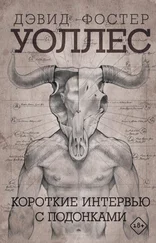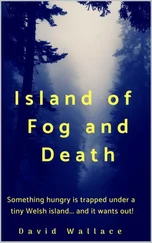Наверное, мне не придумать лучше ответа на твое заявление, будто мои вещи — не „реалистичные“. Меня не сильно интересует классический реализм с большой буквы Р, потому что форма с большой Р давно подкуплена и поглощена коммерческим телевидением. Классическая форма реализма мягкая, знакомая и анестезирующая; с ней мы сразу переходим к пассивному наблюдению. Она не отвечает требованиям серьезной литературы 1990-х.
ЛМ: „Метла системы“ уже изображает некоторые формальные тенденции, какие есть в рассказах из „Девушки с необычными волосами“ и в твоей новой работе — эта игра с врезками и темпоральной структурой, например, любовь к завышенным риторическим эффектам, остранению. Ты мог бы сказать, что твой подход к вопросам формы/содержания претерпел значительные изменения со времени, когда тебе было „юных 22“?
ДФВ: Предполагая, что я правильно понял, что ты имеешь в виду под „формой/содержанием“, единственный мой способ ответить — рассказать свою предысторию. О боже, сейчас я буду выглядеть таким обворожительным и артистичным, а ты никак не сможешь ничего проверить. Итак, последуйте за мной в Старый Добрый Амхерст. Большую часть учебы в колледже я был хардкорным мозгозадротом, с философским образованием — со специализацией по математике и логике. Я был, скромно говоря, довольно неплох, в основном потому, что тратил все свободное время на учебу. Задротство это или нет, но на самом деле я преследовал некое ощущение, особый момент. Один учитель называл такие моменты „математическими переживаниями“. Чего я не знал, так что это математическое переживание было по природе эстетическим, эпифанией в джойсовском духе. Эти моменты проявляются в удачном доказательстве, или алгоритмах. Или великолепно простом решении проблемы, которое вдруг видишь, исписав полблокнота кривыми попытками. Это был поистине такой опыт, который, по-моему, Йейтс называл „щелчком искусно выполненной шкатулки“. Что-то в этом роде. Я про себя всегда это называл „щелчком“.
В общем, я был ужасно хорош в математической философии, и это вообще было первым, в чем я был хорош, так что все, включая меня, ожидали, что на этом я и сделаю карьеру. Но когда мне было около двадцати, все это вдруг опустело. Я просто устал от философии, и запаниковал, потому что перестал получать удовольствие от того, чем, очевидно, собирался заниматься всю жизнь, потому что был в этом хорош, благодаря чему нравился другим. Не самое веселое время. Пожалуй, у меня в двадцать был кризис среднего возраста, что не предвещает ничего хорошего моему долгожительству.
И тогда я вернулся домой на семестр, планируя играть в солитер и печально смотреть в окно, или что еще делают в кризис. И вдруг обнаружил, что пишу литературу. До того моим единственным опытом в литературе была публикация в университетском журнале с Марком Костелло, парнем, с которым я позже написал „Означающих рэперов“. Но у меня уже был опыт поиска щелчка с того времени, как я искал доказательства. И в какой-то момент той осенью я вдруг обнаружил, что бывает и литературный щелчок. Мне очень повезло, что именно когда я перестал слышать щелчок в математической логике, я начал находить его в литературе. Свой первый литературный щелчок я услышал в рассказе „Воздушный шар“ Дональда Бартельми и отчасти в своем первом в жизни рассказе, который бережно храню с тех пор, как написал. Не знаю, было ли у меня достаточно природного таланта для литературной карьеры, но знаю, что слышу щелчок, если он есть. В творчестве Дона Деллило, например, я слышу щелчок в каждой строчке. Пожалуй, это единственный способ описать моих любимых авторов. Слышу щелчок в большинстве вещей Набокова. У Донна, Хопкинса, Ларкина. У Пуига и Кортасара. Пуиг щелкает, как чертов Гейгер. И никто из них не пишет так же прекрасно, как Апдайк, но все же в Апдайке я щелчка не слышу.
Но вот он я, мне двадцать один и я не знаю, чем заняться. Идти в математическую логику, в которой я хорош и в которой у меня есть более-менее гарантированная карьера и признание? Или продолжать с писательством, с „творчеством“? Идея быть „писателем“ меня отталкивала, в основном из-за пижонских эстетов, которых я видел в школе, что ходили в беретах, поглаживая подбородки, и звали себя писателями. Я ужасно боюсь показаться одним из них, до сих пор. Даже сейчас, когда незнакомые люди спрашивают меня, чем я зарабатываю, я обычно отвечаю, что занимаюсь „английским“, или что я „фрилансер“. Я не способен назвать себя писателем. А от терминов типа „постмодернист“ или „сюрреалист“ вообще хочется спрятаться в туалете.
Читать дальше