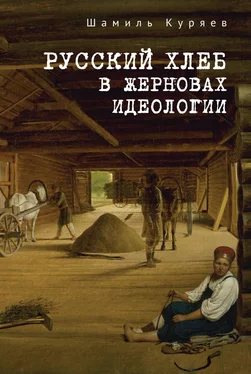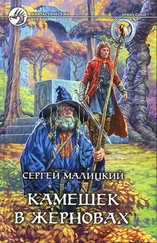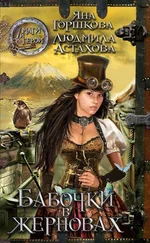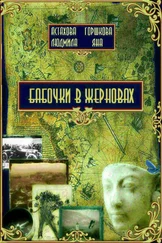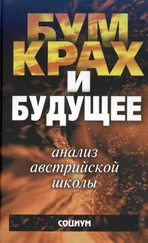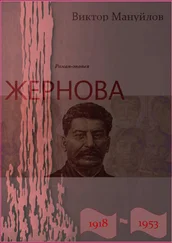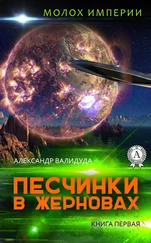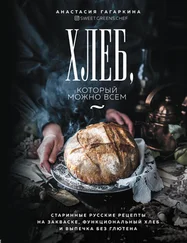Одним из проявлений этого «советского ренессанса» стала восприимчивость общества к чёрной легенде о дореволюционной России.
Всё логично! Если в конце 1980–х – начале 1990–х все знали ужасный Советский Союз и процветавшую Российскую Империю (полумифический «золотой век», воплощение извечной тоски по «утраченному раю»…), то в конце 1990–х – начале 2000–х «потерянным раем» и ностальгически вспоминаемым «золотым веком» оказался уже Советский Союз (ну, а его антитеза – Российская Империя – была просто обречена обернуться адом).
Словом, для того чтобы «второе издание» чёрной легенды о дореволюционной России прошло на ура, к 2000–м годам имелись все необходимые предпосылки. Но нынешние светские и духовные власти постарались (словно нарочно!) дополнительно нагнать «градус неприятия»; всячески подмочить репутацию предреволюционной Империи в глазах современных россиян.
На всём протяжении «лихих девяностых» наша компрадорская власть старалась примазаться к «имперскому наследию»; главным образом – заимствуя помпезную поздне–имперскую атрибутику. Так, имперский триколор стал российским флагом уже в августе 1991 года – сразу после поражения ГКЧП. Имперский герб (в несколько упрощённом варианте) стал гербом Российской Федерации в декабре 1993–го – сразу после расстрела Верховного Совета. Этот герб – ровесник антирусской «ельцинской конституции»! И именно эта конституция вернула нижней палате парламента дореволюционное название: Государственная Дума (хорошо не боярская).
Учитывая то, кто нам возвращал все эти помпезные имперские виньетки и «в придачу к чему» они шли, приходится признать, что в сознании многих наших сограждан сам собой должен был выстроиться весьма негативный ассоциативный ряд! Коммунисты, со своей стороны, прилагали к этому все усилия: «власовская трёхцветная тряпка над расстрелянным парламентом». Что уж говорить о двуглавом орле на постоянно обесценивающихся деньгах? – тут даже никакой враждебной пропаганды не требовалось…
Есть и ещё один немаловажный момент. Известно, что олицетворением той или иной эпохи являются «знаковые фигуры» того времени; в первую очередь – правители. Недаром неосоветчики сделали своим знаменем (и вообще «опорной плитой» своей идеологии) личность Сталина! Посмертная же судьба «знаковых фигур» поздней Империи – а это прежде всего император Николай Второй и премьер–министр Столыпин – складывалась в постсоветской России… довольно оригинально.
Немалую роль в этом сыграла позиция Русской Православной Церкви. Состоявшееся в 2000 году причисление к лику святых императора Николая – крайне неудачливого и откровенно бесталанного правителя (при этом вполне заурядного, «средненького» человека) – вызвало в российском обществе ожидаемый эффект; естественно, отрицательный. Ещё больше его усилила сопровождающая прославление помпа и шумиха. К сожалению, теперь ей уже не суждено стихнуть никогда – такова уж особенность официального церковного почитания: иконы, храмы, торжественные службы, сугубо «благоговейная» трактовка любых слов, поступков и деталей биографии.
Диапазон эмоций, вызванных в обществе канонизацией Николая Второго, оказался достаточно широк: от смущения и досадливого недоумения (у людей умных и образованных) до исступлённой злобищи и беснования (у ярых неосоветчиков).
Однако самой распространённой реакцией было насмешливое ёрничанье – проявлением чего стал настоящий шквал циничных шуток, малопристойных карикатур, ироничных комментариев к царским дневникам и т.п. (главным образом – на тему «святого охотника на кошек и ворон» и интимной переписки с супругой). Остались довольны решением РПЦ разве что православные монархисты–самодержавники – и то далеко не все! – словом, та часть российского общества, которой при любых расчётах можно смело пренебрегать как «статистической погрешностью».
Мероприятие, затеянное из внутрицерковных соображений (одно из которых – примирение с РПЦЗ, давно уже канонизировавшей царскую семью), только повредило исторической памяти императора Николая, нанеся его престижу тяжёлый удар. Своим неоднозначным решением – сопровождающимся, к тому же, наивным приисканием хоть каких–то объективных оснований для такого шага – Церковь его буквально «отдала на растерзание толпе».
И дело ведь не только в личном престиже императора Николая! Канонизация царя, можно сказать, набросила тень сомнения на любую позитивную информацию о николаевской России (особенно – среди молодого поколения). С 2000 года любой «позитив», касающийся Империи Николая Второго, просто обречён наталкиваться на стену усугублённого скептицизма. Всякую же негативную информацию о том периоде общество готово воспринимать как «честную и неприукрашенную», и вообще – вызывающую доверие…
Читать дальше