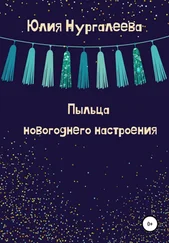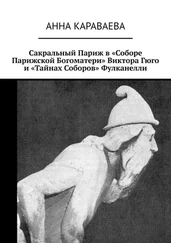«Куклы одеты бывали царями, барынями, и вертепы важивали и нашивали семинаристы и приказные по улицам в святочные вечера…», – писал брат Екатерины Авдеевой-Полевой, журналист, драматург Николай Алексеевич Полевой, родившийся в Иркутске, и живший в нашем городе до 1811 года. Для иркутян, не имевших театра, не заведших еще «благородных домашних спектаклей», вертеп и был тем самым театром, рассказывал Николай Полевой. «Боже мой! С каким, бывало, нетерпением ждем мы святок и вертепа! С наступлением вечера, когда решено «пустить вертеп», мы, бывало, сидим у окошка и кричим от восторга, чуть только в ставень застучат…», – писал он в 1840 году в статье «Мои воспоминания о русском театре и русской драматургии. Письма к Ф.В.Булгарину». Его сестра Екатерина Авдеева-Полевая рассказывала, что обычно с вертепом бродили мальчики, иногда к ним присоединялся и скрипач, что было предметом особой гордости. «В Иркутске были двое слепых, которые играли на скрипке, и утешали не одно поколение», – вспоминала писательница. Иван Калашников помнил, что иногда вертеп сопровождали гарнизонные или казацкие певчие. «Замечательно, что все напевы были польские: одни на манер мазурок, другие – польских. Из этого можно заключить, что вертепы завезены из Польши, или еще вернее, из Киева», – писал старожил Иркутска. Польский, или малороссийский след был виден и в водевилях, что иногда давали после вертепа: часто разыгрывали сценку, когда слуга издевался над глупым и тщеславным шляхтой.
Воспоминания брата и сестры Полевых, Ивана Калашникова – крошечное окошко, открывающее нам рождественский, святочный быт иркутян первой половины 19 века. Конечно, праздник в это время был далек от светских развлечений. Иркутяне чинно постились в Рождество «до первой звезды». В Рождество обязательны были заутреня и обедня, потом семьи шли с поздравлениями к родителям, на второй день – к старшим родственникам. В первые три дня дети ходили «славить Христа», выучивали «рацейки» (колядки). «Еще было обыкновение печь из ржаной муки ягнят и овечек, иногда и пастуха. Все это давали в гостинцы детям», – вспоминала Авдеева-Полевая. В святочные дни девочкам не давали играть кукол, говорили, что «шиликун» их утащит (шиликун или шуликун – разновидность «святочной нечисти»).
Девушки запасали лучинки для гаданий. «В Сибири большие охотницы ворожить, и много рассказывают чудес, кому что виделось», – писала Авдеева-Полевая. Она упоминала святочные игры, в которые играли в Иркутске, и которые были принесены в Сибирь русскими: и подблюдные песни, и игра «хоронить золото», и курилку, и имальцы (жмурки). Гадания на святки могли окончиться и нервными болезнями, поскольку девушки свято верили в совершавшееся. Со святками были связаны и бесконечные истории о том, как на святках было предсказано девицам их будущее, которое в точности сбылось. Эти обычаи, принесенные из России, в Сибири еще долго сохранялись в «самобытной простоте», когда уже в других местах страны их встретить было трудно, вспоминала Авдеева-Полевая.
Всеволод Вагин в записках «Сороковые года в Иркутске» подтверждает: в первой половине 19 века в Иркутске еще сильны были народные, святочные обычаи. Он вспоминал, как это было в его времена: «Группы замаскированных ездили из дома в дом и придавали святочным вечерам еще более оживления». Однако к концу сороковых годов святочные игры практически повсеместно заменила французская кадриль. «И прежняя оригинальность святочных вечеров исчезла. Ёлки, впрочем, еще не были в обычае», – замечает Вагин.
Интересный рассказ о том, как праздновался Новый год в сибирских городах в конце 1840- начале 1850 годов оставила англичанка Люси Аткинсон, супруга британского путешественника Томаса Аткинсона. Томас Аткинсон в 1840—1850 годах совершил опаснейшее путешествие по Сибири, Монголии и Центральной Азии. Две зимы семья путешественников вместе с маленьким сыном жила в Иркутске. Вернувшись на родину, Люси Аткинсон написала книгу «Воспоминания о Татарских степях и их жителях: Письма из Барнаула 1848—1853 гг.». В мае 1851 года в письме она упомянула, что встречала Рождество в Иркутске, жаль, что рассказ был очень скуп. Люси сообщала другу, что писать в общем не о чем, разве что попытаться увидеть какой-то контраст между «правильным английским Рождеством», и тем, что происходит в Иркутске. Путешественница выучила в Иркутске много русских танцев, которые, вероятно, и стали ее развлечением в рождественские дни. Люси до отъезда в Сибирь была гувернанткой в доме М.Н Муравьева в Санкт-Петербурге, брата декабриста А. Н. Муравьева, и конечно, в Иркутске тесно общалась с местной элитой и декабристами.
Читать дальше
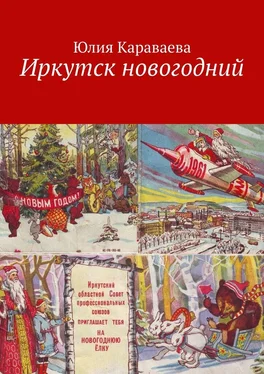
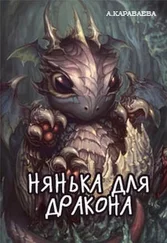

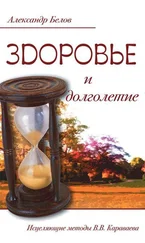


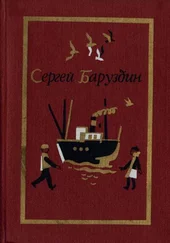
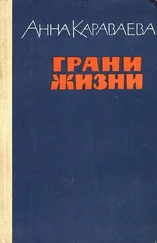
![Юлия Григорьева - Сказка в новогоднюю ночь [СИ]](/books/420311/yuliya-grigoreva-skazka-v-novogodnyuyu-noch-si-thumb.webp)