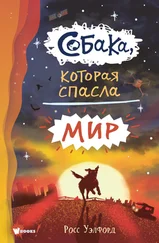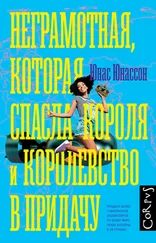Если подойти к вопросу непредвзято и без эмоций, то станет вполне очевидным, что как раз настоящие коммунисты-марксисты (в западном, а не в русском смысле) никак не могут выступать за сохранение в центре Москвы забальзамированного тела Ленина в силу специфики своего мировоззрения. Прежде всего, они принципиальные противники признания сколько-нибудь заметного значения личности в истории. Они убеждены, что историю творят массы, которыми управляют социальные законы, а исторические личности лишь выразители интересов масс (кстати, так считал и сам Ульянов-Ленин и упрекал тех, кто объявлял его великим гением в продвижении народнической теории героя и толпы). Далее, для западного коммуниста-марксиста, который убежден, что человек лишь биосоциальная машина, нехарактерно внимание к мертвому телу и к смерти как таковой. Человек для него важен и интересен, пока он живет на земле, а когда он умрет, тело его превращается в набор химических элементов и потому само оно интереса не представляет. Бессмертие человека марксист мыслит как память о нем у потомков и как долговечность результатов его деятельности, а вовсе не как сохранение его внешних телесных черт. Сама идея сохранения мертвого тела человека долгие годы и, более того, выставление этого тела на общее обозрение должна казаться носителю западнического сциентистского и прогрессистского мировоззрения чудовищной и отвратительной, неким порождением «средневековья» и «мракобесия».
И действительно, сегодняшние коммунисты-западники, объявляющие Зюганова реакционером, мракобесом и предателем левой идеи, вроде неотроцкиста Баранова, вполне спокойно отзываются об идее захоронения тела Ленина, заявляя в Интернете, что для них важнее распространение ленинских идей, а не сохранение его мумии.
Неудивительно, что и ближайшие соратники Ленина – революционеры старой гвардии, «русские европейцы» до мозга костей Троцкий, Бухарин, Каменев – были решительно против бальзамирования тела Ленина и сохранения его в Мавзолее. Почему же посмертная судьба атеиста и материалиста Ульянова-Ленина сложилась так странно и причудливо?
Мы должны не забывать, что большевики пришли к власти не в милой их сердцам «цивилизованной», «просвещенной» Европе, а в стране, где около 80 % процентов составляло крестьянство, которое представляло собой типичное сословие архаически-традиционного аграрного общества, сохранившееся в России до эпохи граммофонов и дирижаблей. Крестьянство не затронула вестернизация, проведенная Петром Первым и его преемниками, и совсем чуть-чуть затронули либеральные реформы Александра Второго. Уже в начале XX в. крестьяне оставались вполне патриархальными типажами, продолжающими жить общинами и исповедующими особую фольклорную разновидность православия, которая начиная с XVIII в. все больше отличалась от церковного православия и приобретала черты «космического христианства», как характеризовал подобные аграрные восточноевропейские культы М. Элиаде. Его суть состояла в отождествлении природных стихий с персонажами Священной истории: Бога-Отца с небом, землю – с Богородицей, зерно и делаемый из него хлеб – с Христом. Это «крестьянское православие» представляло крестьянина как своеобразного жреца, осуществляющего священный брак между небом и землей и обеспечивающего рождение Спасителя мира. Оно одухотворяло, наполняло глубинными сакральными смыслами весь быт крестьянина, все его действия: сельскохозяйственные работы, женитьбу, рождение детей, все предметы и существа, окружающие его и используемые им: плуг, одежду, избу, скотину. Важное место в этой религии, сросшейся с обыденной жизнью, играла вера в святого, народного царя, который прекращает беззакония чиновников и помещиков, дарует крестьянам землю и свободу, но который при этом обязательно должен пострадать и даже пройти через смерть, но умереть не по-настоящему, а как бы уснуть и пребывать во сне до того момента, когда он снова станет нужен народу (вспомним, про веру крестьян в особые царские знаки на теле Пугачева или в пещерку на Волге, в которой до сих пор спит Степан Разин). В образе народного мужицкого царя проглядывались черты образа Христа, преломленного через призму крестьянского космистского мировоззрения.
Отождествление Ленина с этим образом – совершено неожиданное для вождя русских коммунистов и даже неприятное ему – началось в среде русского простонародья еще при его жизни. Уже в начале 1920-х гг. в народе распространяются рассказы о том, что Ленин – спаситель и благодетель народа, что он защитник русских перед «злобными инородцами». Показательно, что во время Кронштадтского мятежа восставшие выбрасывали портреты Троцкого и других членов ЦК, но не трогали портреты Ленина. По-своему народом было истолковано и покушение на Ленина, которое к тому же совершила Фани Каплан, что вполне вписывалось в мифологию русских крестьян – как страдание, принятое Лениным за народ. Даже антиленинские настроения фольклор истолковывал через культ Ленина, сюда относятся рассказы о подмене «настоящего Ленина» подложным во время нахождения вождя большевиков за границей (подобные истории за три века до этого русские крестьяне рассказывали о Петре Первом).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
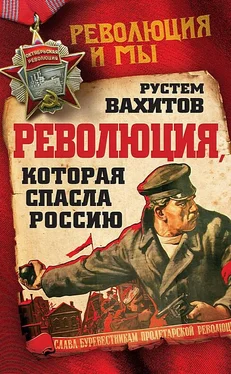

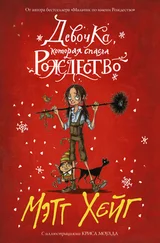


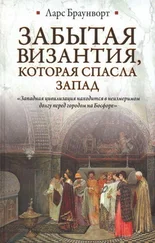

![Росс Уэлфорд - Собака, которая спасла мир [litres]](/books/435968/ross-uelford-sobaka-kotoraya-spasla-mir-litres-thumb.webp)