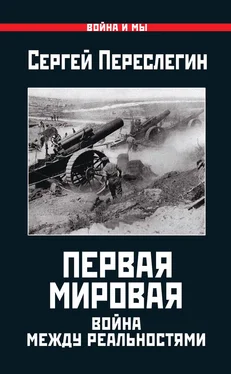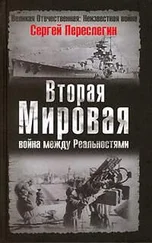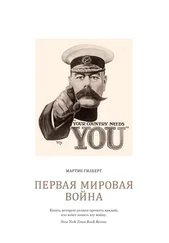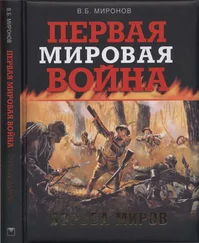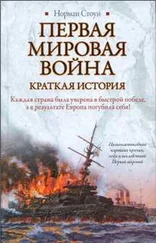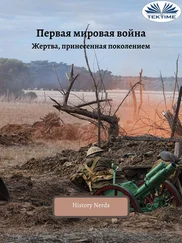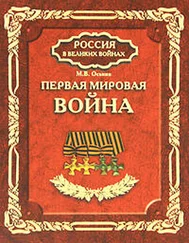Как обычно, с подчинением 6-й армии получилась путаница. Условием возвращения больного Галлиени на действительную службу было выделение для обороны Парижа армии в составе не менее трех корпусов. Военный министр Мессими это обещал, но заартачился Генеральный штаб. В результате начался правительственный кризис, Мессими ушел в отставку, а его пост занял Мильеран. Мильеран обязательства Мессими на себя не взял, и Галлиени остался генералом без войск – в его распоряжении была бригада морской пехоты и какие-то территориальные части. Но 6-я армия отходила прямо на Париж. В итоге Мильеран подчинил ее Галлиени, так что формально все договоренности были выполнены. Зато сам Галлиени вместо прямого подчинения военному министру стал подчиняться Жоффру, который в тот момент не собирался оборонять Париж силами полевой армии. В итоге разобраться с тем, чьи приказы генерал Монури должен выполнять в первую очередь , стало практически невозможно. Удивительно, но в Марнском сражении эта ненормальная ситуация оказалась на пользу союзникам.
Директива Мольтке отчасти опоздала, отчасти была «расширительно истолкована и творчески применена» командующими армиями Правого крыла.
«Состав корпуса – резервисты и ландвер, еще ни разу не побывавшие в бою; уже три недели они в непрерывном походе; от Рейна пройдено почти 600 км без одного дня отдыха. Вместо 25 батальонов корпус насчитывал всего лишь 16. Один из двух полков каждой бригады не имел пулеметов. В дивизии – 6 батарей легких орудий (вместо 12 – в активных корпусах). Тяжелая артиллерия отсутствовала» (М. Галактионов).
Англичане только в середине дня и только после приезда Жоффра и его исторических слов: «Господин фельдмаршал, вы рискуете честью Англии!» согласились принять участие в общем наступлении.
Директива Мольтке от 4 сентября ясно показывает, что он ясно видел кризис на Правом крыле. Как главнокомандующий он мог – и был обязан – придать действиям армий согласованность, превратить ряд частных армейских операций в единое большое сражение. Но он не сделал ничего.
Невооруженным глазом видно, что вытягивание фронта по реке Урк к северу выгодно французам: 6-я армия вся находится севернее Парижа, и Монури гораздо легче, чем Клюку, сосредотачивать войска на открытом фланге. Тем удивительнее, что в последующие дни Клюк превзошел его в темпе маневра.
Им нужно пройти 60 километров по прямой, но прямых дорог там нет, и фактический маршрут пехоты составил 120 километров. Генерал Лохов, командир 3-го корпуса: « Для войск и штабов, силы которых были напряжены до крайности, вследствие длительных маршей и тяжелых боевых действий, медленный отход представлял новое испытание. В особенности достойно сожаления, что было допущено многочасовое опоздание, и прохладные ночные и утренние часы были потеряны для движения. Вскоре наступила страшная жара, которая в соединении с сильной пылью заставляла напрягать силы до последней крайности ».
Об этом часто говорят как о парадоксальности хода и исхода Марнской битвы. В действительности здесь нет никакой тайны и никакого парадокса. Немцы вели несколько отдельных сражений – они их и выиграли. Союзники вели одно большое сражение. В этом большом сражении немцы «не участвовали» начиная с 5 сентября и заканчивая 8 сентября. Восьмого числа Мольтке, наконец, увидел Марнскую битву как единое целое, и командировал Хенча принять решение на месте. Хенч сделал вывод, что битва проиграна, и от имени Мольтке отдал приказ на общее отступление. И это был единственный общий приказ германским армиям Правого крыла за все сражение на Марне.
Британский 3-й корпус был сформирован перед Марнской битвой из 19-й кавалерийской бригады и 4-й дивизии. Эта дивизия была посажена на суда лишь 23 августа, перевозилась в последующие дни и присоединилась к английской армии после боя у Ле Като. Не подлежит сомнению, что активность Флота Открытого Моря в районе Ла-Манша или против британского побережья привела бы к отмене или значительной задержке переброски этой дивизии. Не менее эффективными могли быть действия германских морских сил непосредственно против коммуникационных линий британских экспедиционных сил. Разумеется, активность германского флота привела бы к бою линейных сил. Но, возможно, для немцев было бы выгоднее дать это сражение осенью 1914 года, когда даже отрицательный его результат прямым и непосредственным образом улучшил бы стратегическое положение Германии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу