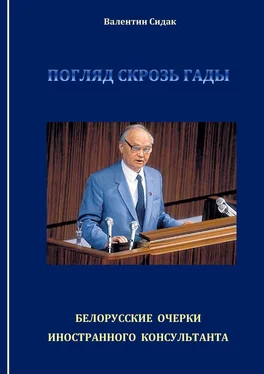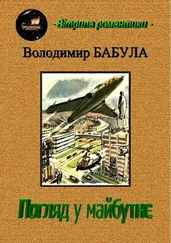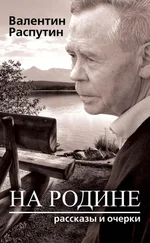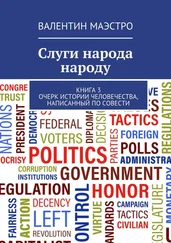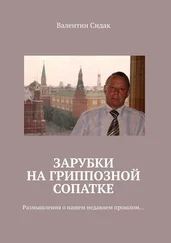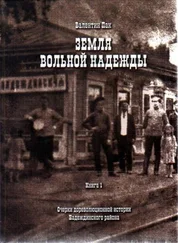Не знаю, высказывал ли публично эту спорную сентенцию Цукерберг или нет – первоисточника утверждения Михалкова лично для себя я не обнаружил. Кое-кто и у нас в свое время не гнушался утверждать, что суверенная демократия – это прежде всего дисциплина и порядок. Однако приравнивать древний принцип «suum cuique» чуть ли не к постулатам книги А. Гитлера «Майн Кампф» (Моя борьба) (которая решением самого обычного, рядового и даже несколько провинциального Кировского районного суда города Уфы от 24.03.2010 года была отнесена к экстремистским материалам и на этом основании включена Минюстом России за №604 в федеральный список экстремистских материалов. запрещенных к распространению, к производству или хранению в целях распространения на всей территории Российской Федерации) столь же малопродуктивно, как и попытки приравнять одного из главных идеологов современного глобализма Клауса Шваба к создателям нацистских концлагерей смерти.
Как известно, на воротах аналогичных лагерей в Дахау, Заксенхаузене, Аушвиц-Биркенау, Терезиенштадте, Гросс-Розене и др., в отличие от Бухенвальда, красовалась другая, не менее зловещая и циничная по своему смыслу надпись «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). Однако общественному остракизму и правовому преследованию ни в России, ни в других странах мира эта фраза отнюдь не подверглась. Она по-прежнему благополучно наличествует в виде своего латинского аналога «Labor omnia vincit» не только в гербах некоторых масонских организаций – строителей Храма, но и в официальных девизах целого ряда образовательных учреждений стран Старого и Нового Света.
Налицо какой-то непонятный и явно выборочный подход. Или же коварная попытка темных сил устроить вселенский шабаш вокруг целого ряда понятий и символов, подлинного смысла и значения которых мы до сих пор до конца не понимаем, несмотря на все старания философов и прочих просветителей человечества. В числе первых в их ряду – что есть на деле «власть», «государство», «демократия». Словом: кесарю – кесарево, а божье – Богу.
О некоторых эпизодах героических будней мастеров советского шпионажа в их неустанном противоборстве с главным противником расскажу как-нибудь позднее. А здесь и сейчас я поведу речь преимущественно о богатой и насыщенной событиями деятельности чрезвычайного и полномочного посланника от Белоруссии в союзном парламенте, главы советской внешней разведки Владимира Александровича Крючкова, а также вкратце расскажу о том, какими попутными ветрами меня занесло в его ближайшее окружение на долгие-долгие годы и тем самым определило всю мою дальнейшую будущность после известных событий августа 1991 года.
У читателей моих первых двух книг могло сложиться несколько превратное мнение относительно причин критической оценки автором деятельности некоторых контрразведывательных подразделений Комитета государственной безопасности СССР, прежде всего его Пятого управления. Кто-то может посчитать, что это происходит вследствие высокомерного отношения представителя «клана белой кости» (то есть снобов и бездельников из внешней разведки) к своим коллегам – «трудягам» из «внутренних» органов, как это сейчас представляют обывателю многочисленно расплодившиеся верхогляды, «патентованные знатоки» и исследователи истории советских спецслужб. Искренне уверяю читателей, что это вовсе не так.
На работу в ПГУ (внешнюю разведку) я попал во многом случайно, до определенного периода не думал, не гадал и даже не мечтал о подобного рода работе. Естественно, как и многие мои сверстники, я с восторгом и замиранием сердца смотрел «Подвиг разведчика», «Мертвый сезон», «Вдали от Родины», «Щит и меч», «Кто вы, доктор Зорге?», «Ошибка резидента», «Сильные духом» и многие другие фильмы из этой серии популярных в народе кино поделок, но при этом вовсе не подозревал, что уже вскоре мне придется заниматься за кордоном чем-то подобным.
Когда я активно работал в комсомольских оперативных отрядах города Москвы и уже вовсю общался и тесно контактировал по работе с сотрудниками КГБ при СМ СССР, то культ преклонения перед работой чекистов-контрразведчиков, который буквально царил в сознании большинства оперотрядовцев, на работу легендарных разведчиков никоим образом не распространялся. Хотя бы потому, что о реальной работе разведки не позавчера и вчера, как в большинстве фильмов, а уже сегодня, мы толком ничего не знали. Максимум, что проскакивало в нашей оперотрядовской среде – это упоминание о таинственной и легендарной «101-й школе» где-то за Балашихой в подмосковных лесах.
Читать дальше