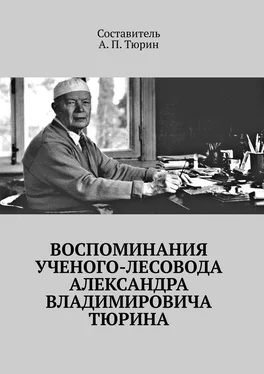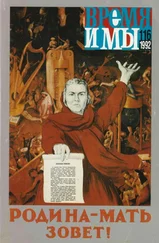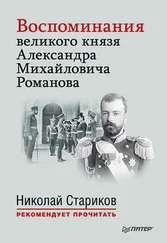1 ...6 7 8 10 11 12 ...36 Уборка ржи начиналась, как правило, на летнюю казанскую 8 июля. Жали серпами (кос и машин не применяли). Считалось, что уборка косою ведет к большим потерям, а жнеек еще не было. Уборка серпом действительно сопровождалось большей тщательностью и наименьшей потерей зерна. Яровые поспевали к 1 августу по старому стилю. Вторая половина июля и первая половина августа по старому стилю была самой напряженной порой. Эта пора носила название «страда». В это время работали не только днем, но и ночью. Первая же половина июля старого стиля была занята уборкой сена. Косить траву начинали с Петрова дня 29 июня. Эта дата, освященная столетиями, несомненно, была правильной для более северных и северо-западных районов страны, откуда пришли в Прикамье русские переселенцы, но для Прикамского края она была запоздалой. Придерживаясь этой даты, косили перезревшую траву. Но никто не решался отступить от унаследованных правил.
На арендованной нами земле лугов не было. Поэтому каждый год луга приобретались нами у крестьян деревни Ямяково, обладавшими большими луговыми пространствами по реке Мензеля. Луга были расположены от нашей усадьбы не ближе трех-пяти километров. Вследствие этого возка сена требовала большего напряжения. Нечего и говорить, что возка снопов с полей на гумно была труднейшей задачей. Молотьба в поле не практиковалась. Только горох иногда молотили в поле. Молотьба на гумне была организована превосходно. Еще в 80-х годах наш отец купил в Казани конную молотилку завода Рамм. На гумне была сооружена огромная рига, в которой помещалась машина и конный привод к ней. Производительность машины была до тысячи пудов в день. Но веяние и сортирование зерна происходило на ручных машинах. Молотьбой занимались поздней осенью и ранней зимой. Хлеб, привезенный с полей, складывался на гумне в огромных скирдах или кладях.
Зима была временем продажи продуктов сельского хозяйства. Местом сбыта был город Мензелинск и пристань Набережные Челны на реке Каме. Первое место, бесспорно принадлежало Мензелинску с его зимней ярмаркой. Продавались рожь, горох, овес, гречиха, живой скот (лошади, быки), битые свиньи и птица. Дополнительно продавалось масло, мед, пух, перо, щетина, редко шерсть и овчина, так как они находили применение в собственном хозяйстве для изготовления валяной обуви, полушубков и шуб. Хозяйство было так построено, чтобы покупать, возможно, меньше изделий города, заводов, фабрик. Так, например, из продуктов первой необходимости покупались сапоги, ситец, редко шерстяная ткань. Белье готовилось из собственного холста, который изготовлялся нашей матерью ежегодно в количестве нескольких десятков метров. Для этих то целей и сеялся лен в небольшом количестве. Конопля не разводилась как культурное растение, хотя у нас на огороде она росла дико в виде зарослей. Шерсть от собственных овец шла целиком на изготовление шерстяных чулок, валенок, а также кошм, которыми пользовались широко вместо тюфяков. На кошмах спали, свертывая их на день в огромные трубки.
Участие детей в общей хозяйственной жизни было разносторонним, но мало определенным. Большею частью это были временные поручения, но иногда они носили характер постоянных обязанностей. Мы обычно вставали с взрослыми и ложились не раньше их. Суетясь, бегали около взрослых, все видели, наблюдали, во всем принимали посильное участие. Зимою рано утром обычной нашей обязанностью было кормление ягнят сеном и липовыми вениками. Ягнята помещались в особой неотапливаемой избе. Кормление ягнят было самым приятным занятием, и я исполнял его с величайшим удовольствием. Менее приятно была кормить гусей, кур и индюшек, так как гуси щипали маленьких хозяев, а старый петух систематически бил нас своим клювом и крыльями. Когда мы стали постарше, нам поручали кормление телят, коров и лошадей. Более разнообразны были наши обязанности летом. В их круг входили дежурства на пасеке, надзор за птицей, особенно за гусями, сгребание сена на лугах, возка сена и снопов, участие в молотьбе, поездка на мельницу, или обмер цепью вспаханных или убранных участков. Наш трудовой день, как бы рано бы мы ни вставали, всегда начинался утренним чаем, с хлебом и молоком. Настоящий чай мы пили редко. Под именем чая разумелся какой-то фруктовый настой. Обед был около двенадцати часов и состоял из щей или супа с вареным мясом, каши и киселей. Вечерний чай с хлебом и молоком был около пяти, а ужин около девяти часов. В нашем столе было мало мяса и только в вареном виде. Изобиловали овощи в виде картофеля, огурцов, капусты и свеклы, но совсем не было фруктов. Яблоки были редкостью. Их привозили издалека. Преобладал красный анис. Осенью были в изобилии арбузы. Их привозили и продавали разъездные торговцы-татары по десять – пятнадцать копеек за штуку. Они же торговали лимонами. Когда у нас бывал настоящий китайский чай, «фамильный», как его называли, то его все пили обязательно с лимоном. Лимоны были дешевы, от трех до пяти копеек за штуку. Торговцы татары в Мензелинске умели хранить их зимою, в особых подвалах. Семена лимонов мы, дети, сеяли в цветочные горшки и выращивали из них комнатные деревца; однако, они у нас не цвели и достигали до высоты три четверти метра.
Читать дальше