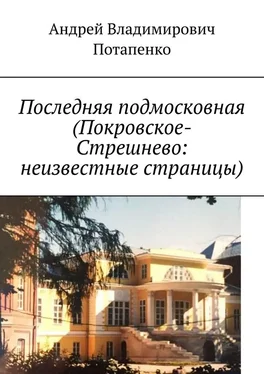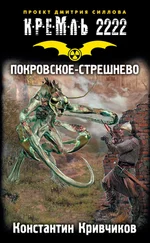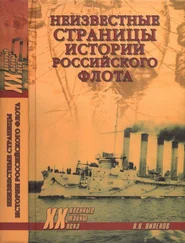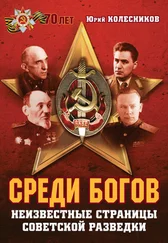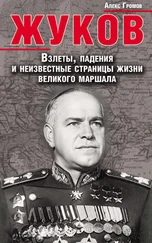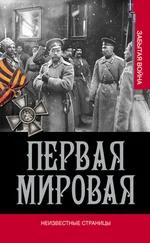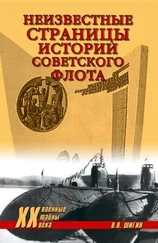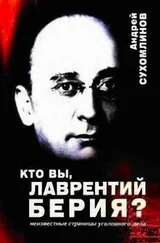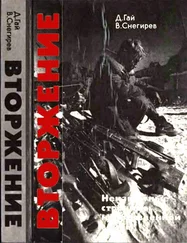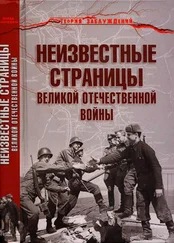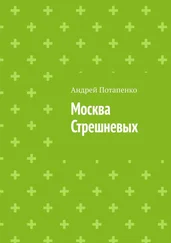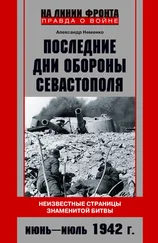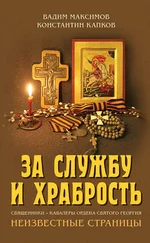В доме были представлены и генеалогические материалы, которыми так гордилась Елизавета Петровна: ландкарты, гербы Стрешневых и Глебовых на бумаге в раме, восковой герб Стрешневых.
Очень необычными для имений были известные сейчас по публикациям других авторов митроскур (микроскоп) красного дерева, камершкур, 3 оконных термометра, барометр (разбитый), аглицкий митроскур, электрическая машина, модель сваебитная и телескоп.
В доме было много новой мебели красного дерева, и вообще, много предметов обычного уровня; бронзы и подобных «излишеств» не водилось. Части старой бытовой обстановки соединялись с новой, большей частью всё это было сделано уже в новом вкусе. Отметим от себя, что именно это обстоятельство и стало одним из оснований для построения музейной экспозиции как показа упадка художественных вкусов дворянства на протяжении XIX и начала ХХ веков.
В 1807 году в Покровском числилось 6 дворов (57 человек), в Иванькове 8 (62 человека).
Сивков отмечает и такой любопытный факт, что в 1812 году, с нашествием Наполеона, Елизавета Петровна долгое время не хотела верить в опасность и уезжать. И только когда крестьяне сами уложили вещи на подводы, Елизавета Петровна согласилась ехать в принадлежавшее им село Давыдково Ярославской губернии.
Вообще, в усадьбе было много дворовых: управляющий, дворецкий, конюхи, «столяр. мастер. уч-ка», одного «в архитекторах», «коновал» ученик, 3 ткача с жёнами, 2 шпалерных мастера, 6 садовников, 6 столяров и арап Помпей Афанасьев (тот самый известный по другим исследованиям «негр Помпео»).
При этом Елизавета Петровна с домочадцами вели замкнутый образ жизни, отмечалось однообразное времяпрепровождение внучек, обычным было присутствие на регулярных церковных службах.
На воспитание детей и внуков обычно прижимистая Елизавета Петровна, однако, денег не жалела, стремясь дать им достойное образование. Среди учителей упомянуты в 1812 г. мамзель Шомер, в 22—24 годах – фортепьянный и рисовальный учителя, учителя Михаил Андреевич и Монгофер, математический учитель Иван Семёнович. Кроме того, внук Фёдор Петрович упражнялся в езде в манеже, фехтованию на рапирах. При этом щедрость на образование внуков не распространялась на бытовой уклад: Елизавета Петровна любила наряжаться сама, но внучки оставались в спартанских условиях. Давно известный факт подтверждается тут конкретными подробностями: обычными были платье за 100 р., башмаки на 4,5 руб., ботинки на 7 руб. При этом в 1824 г. она прикупила себе шаль за 550 р. В среднем на внучек тратилось на более 40 руб в месяц, в то время как любимцу-калмыку Ивану Павловичу она могла сделать подарок на 100 р. А когда императрица Мария Фёдоровна спросила, что бы она могла сделать для уважаемой родственницы, Елизавета Петровна попросила дать калмыку офицерский чин. Ситуация была не совсем корректной, но всё-таки младший офицерский чин любимцу старухи был присвоен.
За Елизаветой Петровной числилось по Москве несколько домов: 2 в Тверской части (на Никитской и Дмитровке), 1 в Мясницкой, 1 в Лефортовской, каменный дом в Ярославле; всего в 20 уездах 10.500 душ крестьян. Значительная часть владений по Волоколамскому уезду (где вообще было много стрешневских владений – А.П.) при этом заложена в Опекунском совете. По завещанию Елизаветы Петровны все дома и 7 тысяч душ отходили внуку Фёдору Петровичу, остальные души – его сёстрам Прасковье и Наталье.
Всё изложенное тем более важно, что опубликованная в виде путеводителя в 1927 году работа Сивкова до обиды кратка, в неё не вошло слишком многое из собранного к тому времени исследователями.
Доклад Сивкова давно нуждается в публикации.
******
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
«ВОТ УГОЛОК, ЧТО МНЕ ВСЕГО МИЛЕЙ…»
Самая дальняя часть лесопарка Покровское-Стрешнево. Елизаветинская горка над оврагом реки Химки. Внизу, чуть в стороне – место «паломничества» москвичей к знаменитым родникам, включая заглавный – Царевна-лебедь, увы, утративший знаменитую мозаичную стелу. А здесь, на краю ещё одного оврага – простая поляна.
Простая, да не совсем. Внимательный глаз различит сразу несколько характерных деталей, которые позволяют определить, что здесь раньше стояла какая-то постройка.
Во-первых, к ней подводит не просто лесная тропа, а грунтовая дорога с липовой обсадкой по обеим сторонам. Делая изгибы и вырываясь, наконец, на простор, она выводит на бугор посередине поляны, переваливая прямо через него. А под ногами начинают встречаться в изобилии битые кирпичи. Сквозь осыпающийся грунт просматриваются следы кирпичной кладки. Правее же, в лесополосе даже более: чётко просматриваются линии кирпичной кладки фундаментов, и деревья растут прямо из них.
Читать дальше