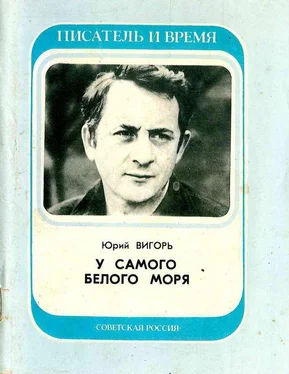Рабочий день в разгаре, деревня, кажется, обезлюдела, кто на промысле, кто на вольерах зверобойки, кто готовит к приемке зверя жиротопный цех, драят чаны, проверяют оборудование…
Бродят по улицам рыжие кони, низкорослые, с длинными гривами, со свалявшейся шерстью на крутых боках. Сколько ни доставляли сюда из центральных районов породистых лошадей, не выживают они в здешних холодах, а эти, с виду неказистые лошаденки, предки которых были завезены к поморам около четырехсот лет назад, спокойно живут себе и нипочем им сорокоградусные морозы. Какая-то особенная порода, морозостойкая. Остановился табунок перед входом в правление колхоза, обнюхали «Буран», заглянули на веранду, попробовал один молодой конек губами плакат, треплющийся на ветру, и побрели лошади дальше, не обращая внимания на путающегося под ногами кудлатого кобелька.
В штабе зверобойки, в большой комнате окнами на восток, высокий сутуловатый мужчина с усталым бледным лицом неторопливо вышагивает из угла в угол, смотрит исподлобья на карту, где заштрихованы пятнами места тюленьих залежек на льду, слушает по включенной рации, как переговариваются между собой люди, занятые на промысле, беспрерывно курит, по временам достает из кармана патрончик с валидолом, нервным жестом отправляет в рот таблетку, справляется у метеорологов, какая ожидается на завтра погода…
Хотя на промысле все идет пока как нельзя лучше, но внешний вид начальника промысла не выражает оптимизма, точно сама эта благополучность таит в себе некий подвох и он со дня на день ожидает неминуемую, стерегущую его неприятность. Вот только с какой стороны ее ожидать?.. Многие здесь, в деревне, называют между собой Томилова «генералом зверобойного промысла». Ежедневно по утрам он вылетает на первой машине разведать ледовую обстановку, намечает на карте, в каких квадратах, с каких полей брать зверя бригадам, потом возвращается в деревню, в штаб, где чаще всего остается один и проводит весь день у включенной рации, изредка щелкая тумблером, делая кому-то короткое замечание, и снова шагает из угла в угол, меряя нервной походкой пустую комнату. Может быть, он излишне волнуется, может, ему не следует так переживать? Наверное, мысленно он там, в море, на какой-нибудь льдине, где спокойно и споро работают люди, а торосистые поля несет течением в сторону Канина Носа, и по временам слышится треск ломаемого льда. Каждая минута работы зверобоя на льду сопряжена с риском, точно на войне. Туда, на лед, команды начальника промысла уже не поступают, у бригадиров и радистов связь только с вертолетчиками и диспетчером на маяке острова Моржовец. Да и невозможно никак командовать на расстоянии, на льду все необходимо решать сиюминутно, в зависимости от конкретной, постоянно меняющейся обстановки. На промысле тюленя царь и бог — бригадир.
К концу дня ветер улегся и на тундру опустился туман. Последний вертолет приземлился в тридцатиметровом поле видимости. Солнце мутное, далекое, маленькое, на него можно смотреть, не щуря глаз. Если к утру туман не разгонит ветром, вертолеты в море не полетят.
Вечером в клубе лекция о влиянии человека на окружающую биологическую среду. После лекции — танцы. Танцует человек пятнадцать, совсем зеленая молодежь. Парни постарше играют на бильярде. Большой стол с зеленым сукном, как в Центральном доме литераторов, но шары щербаты, кии вытесаны из еловых веток. Игра идет вяло, перемежается разговорами. Входят пять парней, держатся уверенно, смотрят открыто, приветливо. Зверобои из соседнего приморского села, что в шестидесяти километрах, — Долгощелья. Просят у завклубом гармошку, на время, пока будут находиться здесь на промысле. Тот дает без разговоров, не требует даже расписки, уверен, что по окончании промысла вернут.
— Мужик, пойдем наши песни послушаешь, — приглашает меня невысокий, улыбчивый, с ранней залысиной на высоком лбу звеньевой Сергей Нечаев. Отыскиваю в ворохе одежды свою куртку, выходим из клуба. Тихо, безветренно. Ночь теплая, чуткая, туман скрадывает не только расстояние, но и звуки.
— Тебе что спеть — душевное или чтоб хаханьки? — останавливается Серега и поправляет ремень гармошки, сползший с плеча.
— Давай что-нибудь душевное, — говорю я.
— Хочешь «Угрюмое море»?
— Хочу. — Никогда прежде песни этой я не слыхал.
— Песня, мужик, грустная, длинная, — предупреждает Серега и медлит начинать, выжидающе смотрит на меня.
— Ну ладно, слушай, — трогает он мехи гармони.
Читать дальше