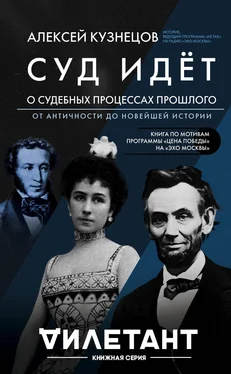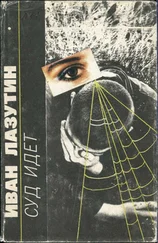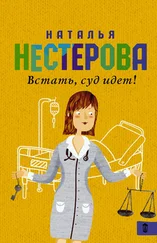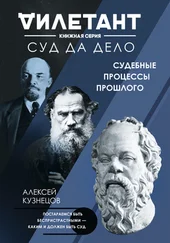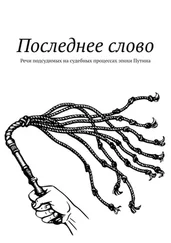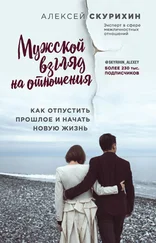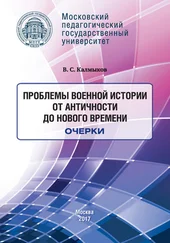1 ...6 7 8 10 11 12 ...65 «Еще ж и сие воспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен! Ибо, сколь много за сие тебя бранивал, и не токмо бранил, но и бивал, к тому ж столько лет почитай не говорю с тобою; но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться…»
Петр I – Алексею, октябрь 1715 года.
Осенью 1715 года у Петра родился долгожданный сын от второй жены Екатерины – т. е. появился альтернативный наследник. Тон писем Петра к старшему сыну стал откровенно угрожающим: «…известен будь, что я весьма тебя наследства лишу яко уд гангренный, и не мни себе, что я сие только в устрастку пишу – воистину исполню, ибо за мое Отечество и люд живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть». Ждать, какие еще меры изберет для лечения «гангренного уда» любящий отец, Алексей не стал и под благовидным предлогом выехал в Польшу, где благоразумно пропал вместе с любовницей, крепостной девкой Евфросиньей.
РОЗЫСК
Петр не сомневался, что бегство сына стало результатом заговора с участием иностранных держав. Инструктируя одного из отправленных в Европу на розыски агентов, гвардейского капитана Румянцева (отца будущего фельдмаршала), он прямо указывал: «…Ежели помогающу Богу достанут известную персону, то выведать, кто научил, ибо невозможно в два дни так изготовиться совсем к такому делу…»
Австрийские власти, спрятавшие беглецов в Неаполе, пробовали отнекиваться и делать вид, будто слыхом о них не слыхивали, но возглавлявший розыски Петр Толстой, будущий граф и предок великого писателя, сумел выследить царевича. Лестью, угрозами добиться экстрадиции, обещаниями отцовского прощения и перспективами тихой жизни с возлюбленной (Евфросинья была беременна) на родине искусный дипломат склонил Алексея к возвращению. Петр письменно гарантировал сыну безопасность: «Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься».
ЛОВУШКА
По прибытии в Москву царевич торжественно отрекся от прав на престол и получил отцовское прощение. В нем, однако, имелось условие: «Понеже вчерась прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочего тому подобного; а ежели что утаено будет, то лишен будешь живота;…ежели что укроешь и потом явно будет, на меня не пеняй: понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон». В переводе на современный язык бывший наследник обязан был выдать всех сообщников; попытка укрыть кого-либо делала прощение недействительным.
«Петр I допрашивает царевича Алексея» (Н. Ге, 1871)
Трудно сказать, была ли это заранее подготовленная ловушка или же болезненно подозрительный Петр стращал сына «на всякий случай». Как бы то ни было, следствие начали немедленно, поручив вести его все тому же Толстому, которого Алексей еще со времен Неаполя боялся до обморока. Подследственный юлил, возлагал вину на окружение, пытался отделаться полуправдой, однако Толстой дело свое делал на совесть. Сеть розыска раскинули широко: допрашивали под пыткой людей из ближайшего окружения, крепко взялись за Евфросинью, специального следователя отправили в монастырь, к опальной царице Евдокии (преступных связей с сыном не выявили, но зато вскрыли ее любовную связь с отставным офицером, и уж тут Петр покуражился…). В конечном итоге заговор был «обнаружен» (больше в помыслах и на словах, чем на деле, однако действующее законодательство большой разницы не видело), царевич уличен во лжи и умолчании. Остальное было делом юридической техники.
«К цесарю царевич писал жалобы на отца многажды. Он же, царевич, сказывал мне о возмущении, что будто в Мекленбургии в войске бунт… И как услышал в курантах (газете. – А.К.), что у государя меньшой сын царевич был болен, говаривал мне также: «Вот де видишь, что Бог делает: батюшка делает свое, а Бог свое». И наследства желал прилежно».
Показания Евфросиньи, май 1718 года.
СУД
Наследников престола, пусть и бывших, на Руси еще не судили. Родственника царя могли убить по высочайшему повелению (как князя Владимира Старицкого), засадить в темницу (как брата Ивана III Андрея и его детей или царевну Софью), но судить – не судили. Петру, стремившемуся придать делу формальный ход, предстояло изобрести процедуру. Это он любил.
«Палач подбегает к осужденному двумя-тремя скачками и бьет его по спине, каждым ударом рассекая ему тело до костей. Некоторые русские палачи так ловко владеют кнутом, что могут с трех ударов убить человека до смерти».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу