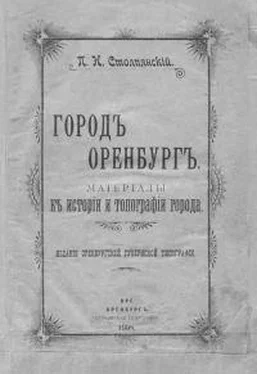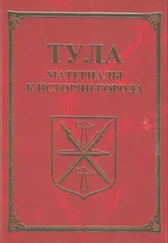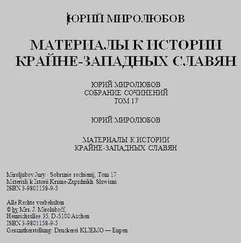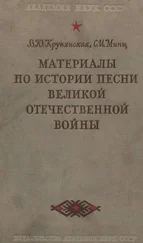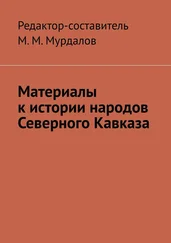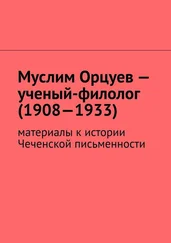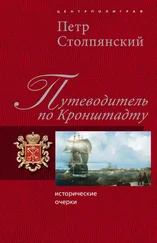И как истинный деятель Кириллов умер на своем посту, умер среди отдаленной Башкирии. Его план, составленный теоретически, на основании одних умозаключений, оказался не так то легко осуществимым. Пришлось не мечтать о устроении флотилии на Аральском море, пришлось думать не о снаряжении торговых караванов из Оренбурга через киргизскую степь в богатую золотом, пряностями, драгоценными камнями и тонкими тканями благодатную Индию — обо всем этом писал в своем проекте Кириллов. Нет, пришлось вести упорную, кровавую борьбу за каждый шаг, за каждый кусочек номинально числящейся за ними земли и вести борьбу на два фронта, с двумя народностями, тоже номинально состоящими в нашем подданстве. С боков давили башкиры, которые понимали, что их владычества пришел конец, а впереди были воинственные номады киргизы, дети привольно-бесконечных степей, то появлявшиеся перед русскими войсками, внезапно нападавшие на русские поселения и также внезапно пропадавшие в своих казавшихся бесконечными, безграничными степях.
Борьбу начал Кириллов, ее продолжали Татищев, Урусов и закончил Неплюев. Таким образом первые 25 лет существования края приходилось думать не о колонизации — а о усмирении. План этого усмирения нарисовал еще Кириллов, остальные его заместители только развивали его план.
А план был очень прост — прежде всего надо было обхватить железным кольцом крепостей находящуюся в нашем подданстве — Башкирию, превратив ее таким образом из окраины в более или менее центральную провинцию, затем точно таким же способом надлежало взяться и за киргизов, за степь. Постепенно год за годом, шаг за шагом, надо было выдвигать в степь носящие такое характерное наименование «линии» ряды крепостей, удаляясь все дальше и дальше в необозримую даль степи... А что впереди? А впереди богатые области — оазисы средней Азии — впереди Мерв, Ташкент, Хива и Бухара, а там так долгожданная желанная Индия.
Кириллов положил лишь начало — тяжелый недуг — чахотка — сразила талантливого самородка. Главнейшую его ошибку — слишком удаленное положение Оренбурга, внутри степи, начал исправлять Татищев и закончил Неплюев.
Татищев — отец русской истории, опять повторяем, ученик Петра I был также разнообразен в своих занятиях, как и его учитель. Посол в Швеции, начальник горных заводов, губернатор в Оренбурге и Астрахани, Татищев все время служил одной идее, его богинею была наука: и где бы он ни был, в каком жизненном положении он не находился, он не забывал своей богини и собирал один за другим вклады в сокровищницу русской науки.
Не зная иностранных языков в молодости, он выучился немецкому языку в зрелых годах, не получив даже крох от европейской науки, он своим зорким трезвенно-скептическим умом предвидел очень далеко, и вместо схоластики, еще царившей в науке, он прокладывал натуральные пути.
Не веря в ведьм, спася от костра несчастную крестьянку старуху в Польше, он также не верил в те отвлеченные формулы, которыми снабдило его отечество, его родной дом — старых московских бояр.
Он требовал и жаждал только фактов и эти факты он собирал всю свою жизнь: за границею в Кенигсгольме он отыскивает летопись, в Швеции труды Манькова, на Урале и в Сибири сибирские первоисточники, составляет словари языков инородцев, составляет словарь географии России и наконец сочиняет свою историю российскую, которую — так как она показалась слишком вольнодумною российскому духовенству — мечтает издать за границей.
В Оренбурге он пробыл не долго, но он положил начало новым действиям русских в колонизуемом крае — кроме крепостей и завоевания войском есть другой способ завоевания — культурным путем, путем поднятия цивилизации, путем хорошо дисциплинированной, знающей, административной власти. Для первого — Татищев открыл в Самаре школу для калмыков и татар, для второго — он возобновил коллегиальное управление среди властей.
Но, конечно, это были одни попытки, одни намеки, которые не могли привиться к жизни, жизнь была слишком груба, и все более или менее гуманные начинания, которые проводил по отношению башкир и киргиз Татищев, пожалуй, оказали менее влияния, принесли меньше пользы, чем кровавые казни, которыми действовал заместитель Татищев — князь Урусов.
Потоками лилась кровь, беспрерывным заревом горящих башкирских деревень освещались небеса, сотни, тысячи башкир уводились в Сибирь, во внутренность России, поступали в крепостную зависимость, виселицы, колья, отрезание ушей, носов, языка были обычными мерами — и они если не усмирили волнений, то хотя несколько утушили его.
Читать дальше