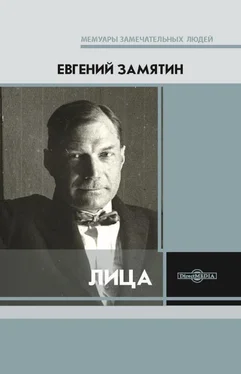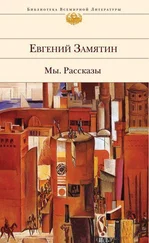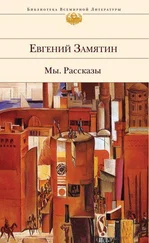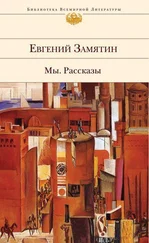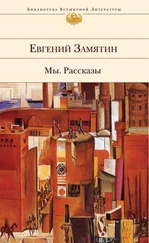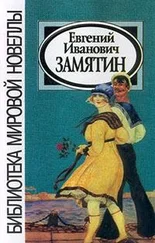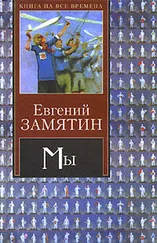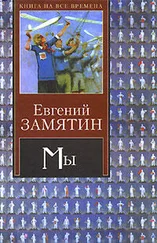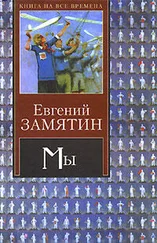Европейское у Сологуба — не только в его сатире: весь его стиль закален европейским закалом и гнется по-стальному. Без малейших следов надлома или трещины он выдерживает стовосьмидесятиградусный перегиб от каменнейшего, тяжелейшего быта — в фантастику, от земли, пропитанной запахом водки и щей — в землю Ойле. Тонкое и трудное искусство — к одной формуле привести и твердое и газообразное состояние литературного материала, и фантастику, и быт — давно уже известно европейским мастерам; из русских прозаиков секрет этого сплава по-настоящему, может быть, знают только двое: Гоголь и Сологуб.
Слово приручено Сологубом настолько, что он позволяет себе даже игру с этой опасной стихией, он сгибает традиционный прямой стиль русской прозы. В «Мелком бесе», в «Навьих чарах», во многих своих рассказах он намеренно смешивает крепчайшую вытяжку бытового языка с приподнятым и изысканным языком романтика; в «Ваньке-ключнике и паже Жеане» эти диссонансы заострены еще больше и осложняются очаровательной игрой намеренных анахронизмов; в «Сказочках» — новый уклон: игра гиперболи-рованным фольклором. Всей своей прозой Сологуб круто сворачивает с наезженных путей натурализма — бытового, языкового, психологического. И в стилистических исканиях новейшей русской прозы, в ее борьбе с традициями натурализма, в ее попытках перекинуть какой-то мостик на Запад — во всем этом, если вглядеться внимательно, мы увидим тень Сологуба. С Сологуба начинается новая глава русской прозы.
Если бы вместе с остротой и утонченностью европейской Сологуб ассимилировал и механическую, опустошенную душу европейца, он не был бы тем Сологубом, который нам так близок. Но под строгим, выдержанным европейским платьем Сологуб сохранил безудержную русскую душу. Эта любовь, требующая всё или ничего, эта нелепая, неизлечимая, прекрасная болезнь — болезнь не только Сологуба, не только Дон-Кихота, не только Блока (Блок именно от этой болезни и умер) — это наша русская болезнь, morbus rossica. Этой именно болезнью больна лучшая часть нашей интеллигенции — и, к счастью, всегда будет больна. К счастью, потому, что страна, в которой уже нет непримиримых, вечно неудовлетворенных, всегда беспокойных романтиков, в которой остались одни здоровые, одни Санхо-Пансы и Чичиковы — раньше или позже обречена захрапеть под стеганым одеялом мещанства. Быть может, только в огромном размахе русских степей, где будто еще недавно скакали не знающие никакой оседлости скифы, могла родиться эта русская болезнь. При всем своем внешнем европеизме Сологуб — от русских степей, по духу — он русский писатель куда больше, чем многие из его современников, например, Бальмонт или Брюсов. Жестокое время сотрет многих, но Сологуб — в русской литературе останется.
1924 г.
Революцию часто сравнивают с метелью — с этой седой, буйной русской стихией. Попробуйте на утро после метельной ночи выйти в сад — вы не увидите уж ни одной знакомой тропинки, ни одного знакомого предмета. Всё белое, новое, всюду сугробы, и вы не знаете, что под сугробом: может быть, колодец, может быть, скамейка, может быть, куст жасмина. Так же замело все дороги, так же насыпало сугробов за эти десять лет русской метели. И под одним из сугробов оказался Чехов.
Поговорите о Чехове с кем-нибудь из читателей нового, последнего поколения. Вы чаще всего услышите: «Чехов? Нытье, пессимизм, лишние люди»... — «Чехов? Никакого отношения к новой литературе, к революции, общественности»... Это значит, что Чехова не знают, его перестали видеть, замело к нему все тропинки. И это значит, что пора взять лопату, разрыть сугроб и показать Чехова, показать его биографию. Не внешнюю его биографию — ею занимались довольно, а биографию его духа, линию его внутреннего развития.
«Как я буду лежать в могиле один, так в сущности, я и живу одиноким». Это — коротенькая, неизвестно к кому относящаяся, заметка из записной книжки Чехова, опубликован-ной после его смерти. И можно думать, что он написал это о себе: именно с ним было так, всю жизнь он прожил один. Приятелей у него было много, но друзей — таких, которым бы он настежь открыл двери в свою душу — таких друзей у него не было. Было в нем какое-то особое целомудрие, заставлявшее его тщательно прятать всё, что глубоко, по-настоящему волновало его. Оттого для Чехова трудно установить то, что я назвал «биографией духа». И лишь путем «косвенных улик», учитывая некоторые мало заметные события внешней его биографии, внимательно прислушиваясь к тому, что говорят действующие лица его произведений, — можно увидеть, в чем была его вера и каковы были его общественные взгляды.
Читать дальше