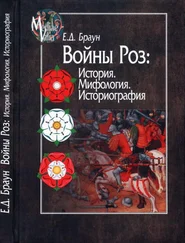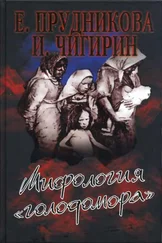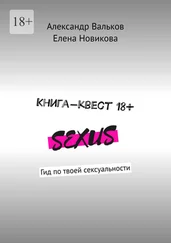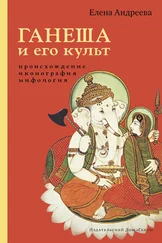Приведем для сравнения цитату российской исследовательницы О. Смирницкой, завершающую ее очерк "Поэтическое искусство англосаксов": "Нормандское завоевание пресекло традицию аллитерационной поэзии в Англии. Но можно заключить из сказанного, что к этому времени аллитерационная поэзия, теснимая латинской и англосаксонской прозой, уже исчерпала свои возможности. Подобно эпическому герою накануне последней битвы, она была уже близка к смерти. Едва ли случаен тот факт, что среди древнеанглийских рукописей нет стихов, посвященных битве при Гастингсе". [5] Смирницкая, О. Поэтическое искусство англосаксов// Древнеанглийская поэзия. - М., 1982. - С.232.
Возможно, этот же факт Толкин оценил для себя совершенно по-другому: отсутствие поэмы о последней судьбоносной битве могло указать ему на "мифическую непрерывность" этой традиции, на ее переход в "воображаемый" пространственно-временной участок, в "альтернативную" реальность, в которой битвы при Гастингсе - никогда не было, а следовательно не было и Нормандского завоевания. "Театр моей истории - наша земля, но исторический период - воображаемый", писал Профессор о своих сочинениях. [6] The Letters of J.R.R.Tolkien... - P.239.
Однако, если бы Толкин хотел "переписать" историю, то у него скорее вышло бы произведение жанра "альтернативной истории", популярного в наши дни. Но его замысел был иным: он создал альтернативную мифологию , то есть такую, какой могла бы быть мифология англосаксонского общества, не измененного нормандским завоеванием, питаемая английским языком, не искаженным французской "экспансией". Такими были его замысел и источник вдохновения, такой была прямая связь его текстов с английской литературой, точнее, древнеанглийской, с сознательным "игнорированием" почти всего, что было написано после Чосера. И тем не менее, мифологическое полотно, созданное Профессором, включает в себя неизмеримо больше, чем предполагает такой замысел, сам по себе достаточно дерзкий и смелый.
То, как реализация постепенно превосходила первоначальный замысел, можно проследить по 12-томной "Истории Средиземья", собранию сохранившихся вариантов легенд и мифов об Арде, отредактированных и напечатанных после смерти Профессора его сыном Кристофером. В ранних версиях мифов большое внимание уделяется их обрамлению, которое, соответственно, призвано "вписать" их в "воображаемый" период земной истории (См. "Книги утраченных сказаний", "Лэ Бэлэрианда", "Очертания Средиземья"). Страннику Эриолу в Домике Утраченной Игры рассказываются мифы о сотворении мира, о противоборстве валар с Мэлько ("темным", демоническим началом Арды), о приходе эльфов и людей и т. д. Далее, в пятом томе "Утраченный путь" прием странствия и рассказа сменяется на лингвистическое путешествие-сон, которое совершает филолог двадцатого века по имени Албоин (Alboin), Эльфвине (Aelfwine) на древнеанглийском. Это имя исторического лица, англосакса, участника битвы под Мэлдоном, и оно привлекло Толкина своим значением ( древнеангл . "друг эльфов").
История Эльфвине переходит из нашего времени в мир Арды, но обратной связи не происходит, мир эльфов "поглощает" героя и не отпускает обратно. То же самое можно сказать в целом о мире Арды: "поглотив" англосаксонскую живительную силу, он преображается в независимый фантастический мир, пути в который обрываются. Таким образом, Толкин создает страну "Фэери" (Faerie), ценную не только в ее сравнении с мифологическими системами северо-запада Европы, но и в силу стройности ее внутренней структуры, богатства образов и сюжетов. Эльфы Арды (самоназвание квэнди , "говорящие") - носители мифических языков, утраченной поэтической традиции. Кроме того, они являются своеобразной реакцией Толкина на кельтский элемент в английской культуре, в частности, на такие традиционные кельтские мотивы, как плавание к таинственным западным землям и любовь смертного и феи.
Итак, многочисленные рассказчики Арды повествуют о событиях ее мифоистории, в которой магическое тесно переплетается с героическим. Как было сказано выше, эти нарративы были изначально противопоставлены средневековой традиции рыцарского романа "бретонского цикла", преимущественно французского. Как известно, французский рыцарский роман в своем развитом варианте (романы Кретьена де Труа и его последователей) локализировал своих героев, как правило молодых рыцарей, в абстрактном хронотопе, авантюрном времени, по определению А.Михайлова, "неопределенном куртуазном артуровском универсуме". [7] Михайлов, А. Французский рыцарский роман. - М., 1976. - С. 174.
Основной способ освоения этого хронотопа - "странствие", "богатырский поиск", "авантюра", "квест" (quest), который отправляет героя в свободное передвижение по кольцевой траектории, с началом и концом при дворе короля Артура в Камелоте. Этапы и компоненты такого квеста, как правило, стереотипны, и легко поддаются классификации при помощи парадигмы, выведенной В. Проппом для волшебной сказки.
Читать дальше