Среди нарушителей был и некий мещанин Д. Жмотов, который в пьяном виде кричал на Рождественке: «Да здравствует Германия!» Главноначальствующий определил «германофила» на три месяца в тюрьму.
Брошюру И. Н. Введенского «Опыт принудительной трезвости» (М., 1915), переизданную в Новосибирске в 1996 г., по-видимому, и сейчас используют для пропаганды «сухого закона». На наш взгляд, у данной работы есть один крупный недостаток – автор превозносит положительные стороны абсолютного запрета на алкоголь и недостаточно подробно исследует его отрицательные последствия.
Судя по ответу Л. С. Минора на анкету «Голоса Москвы», сам он также был сторонником трезвости: «Вообще же я приветствую новую эру абсолютной трезвости и считаю, что все мы должны быть благодарны власти и московскому городскому самоуправлению за то, что они так смело и решительно вступили на этот путь. Конечно, человеку, пьющему за обедом рюмку или две водки, или стакан пива, трудно будет отказаться от этой привычки, но он должен знать, что за ним, интеллигентом, стоят миллионы не умеющих пить умеренно и гибнущих в пьянстве, – и во имя спасения этих миллионов он должен с радостью перенести это маленькое лишение».
Претворяя в жизнь программу борьбы с пьянством, утвержденную в начале 1914 г., Министерство финансов подготовило распоряжение о снижении крепости водки до 37 градусов. Царь же взял да и совсем ликвидировал водку.
Ляпинское общежитие на Б. Серпуховской улице.
Смесь фруктов, политая спиртом или вином. Рецептура ресторанных блюд не регламентировалась ни одним официальным документом.
В царской России под реквизицией подразумевались принудительный вывод какого-либо товара из свободной продажи и его закупка государством по фиксированной цене. Так, 21 сентября 1914 года было объявлено о реквизиции всего сукна защитного цвета, а также байки и другой теплой материи. Все наличные запасы этих материй были опечатаны и запрещены к продаже.
2 февраля 1917 г. газета «Раннее утро» писала: «В лавках наблюдается такое явление. За французским хлебом длинная очередь в два-три ряда, а у прилавка с черным хлебом совершенно нет покупателей. Причина та, что черный хлеб требует большой выпечки, большого расхода дров, и хлебопеки в целях экономии выпускают черный хлеб недостаточно выпеченным. Публика поэтому неохотно берет черный хлеб и предпочитает “батоны” и французский хлеб».
К сожалению, в «Москве повседневной» было допущено ошибочное утверждение, что в годы Первой мировой войны Грибной рынок прекратил свое существование.
Москвич Н. М. Мендельсон 16 марта 1921 г. сделал запись в дневнике: «А. Л. [Фест] ездит в Ин[ститут] народного] хозяйства] из Института] п[утей] сообщения] на автомобиле. Последнее время – новый шофер, поразивший его сильнейшим тиком и вообще страшной нервностью, вызвавшей у Феста даже страх с ним ездить. Разговорились. Оказывается, шофер сидел в ЧК за спекуляцию керосином и употреблялся ЧК как специалист. Возил расстреливаемых – за Всехсвятское и в Петр[овский] парк. Привезут партию, выстроят, сзади направят фонари автомобилей, и палачи ходят и стреляют в затылок осужденных. Шофер силач, атлет (“6 пудов одной рукой поднимал”), заболел. Другие после одной поездки сходили с ума. По его мнению, за [19] 19 и половину [19]20 г. расстреляно не менее 50 000 человек». – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 165, карт. 1, д. 7. Лл. 18 об. – 19.
При открытии сезона в театре Незлобина, по сообщению рецензента, гимны союзников были исполнены «на их национальных языках», в том числе на «бельгийском» (!) и японском.
В Большом театре в роли вспомогательного оркестра (т. н. «банды»), располагавшегося за кулисами, традиционно выступали музыкальные команды московских полков. В связи с их отправкой на фронт для набора «банды» администрации театра пришлось объявлять конкурс среди цивильных музыкантов.
Так в тексте. Современное написание – Ужоцкий перевал.
В 1917 г. для обозначения кинотеатра среди москвичей в ходу было слово «биограф».
Имеются в виду крупные торговцы, осужденные за спекуляцию. В 1917 г. газеты называли московские тюрьмы «последними убежищами мародеров» и отмечали, что в них появились камеры, прославленные «постояльцами» из числа нуворишей-спекулянтов. В то время процесс «посадки» в тюрьму состоял из нескольких этапов. Сначала приговоренный находился в полицейском доме, где ждал, пока московский тюремный инспектор распределит осужденных по тюрьмам. В большинстве случаев «акулы» спекуляции попадали в «Каменщики» (Таганскую тюрьму).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
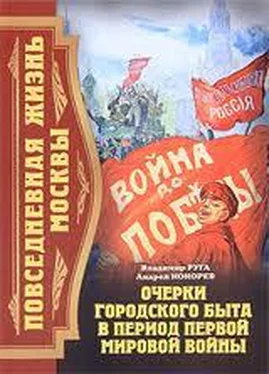




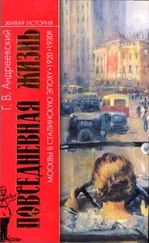
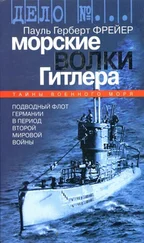


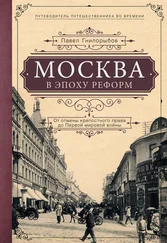
![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/411139/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny-thumb.webp)

