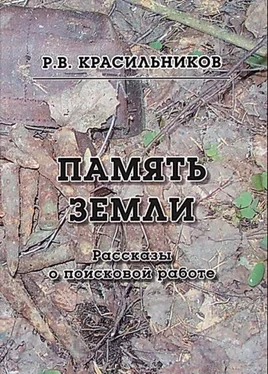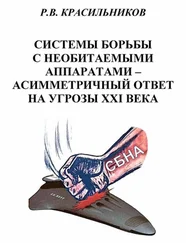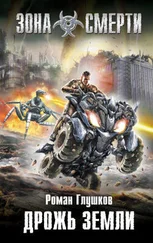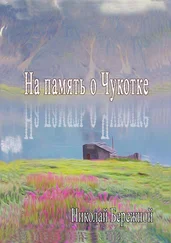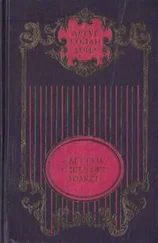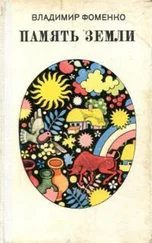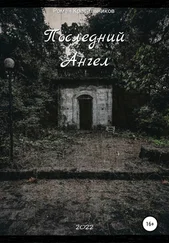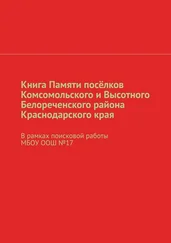В этот же день мы познакомились в деревне Большое Замошье с местным жителем — старичком лет под восемьдесят, который рассказал нам всю историю боя за Молотки так, как будто сам смотрел в архивные документы. Ранее я уже писал, что 255-й полк должен был перерезать дорогу из Молотков совместно с партизанами. Со слов старичка выходит, что операция почти удалась. Солдаты роты скрытно под покровом темноты преодолели речку и уже вышли к дороге, как вдруг кто-то, вроде из партизан, заметил в предрассветных сумерках немецкого часового, стоявшего на той самой гряде, господствующей над местностью. Не удержавшись, он выстрелил в часового. Попал или нет — об этом история умалчивает. Однако, после этого выстрела немцы всполошились и пригнали в тыл две танкетки, с помощью скорострельных пушек которых и поддержали контратаку, сорвавшую операцию…
Также от местного жителя нами была получена информация о том, что в 1947–1948 годах из районов урочищ Молотки и Далеково под руководством представителей Лужского РВК были перенесены (скорее всего, на мемориал в деревню Гобжицы) два неучтенных воинских захоронения. При этом в захоронении, перенесенном из района урочища Молотки, находились останки 9–12 воинов Красной армии, только двое из которых были опознаны по личным опознавательным знакам. И это всего через три года после гибели!
Как рассказал старичок, местных мужиков привлекли к работам по эксгумации убитых, пообещав, что они смогут забрать себе фляжки со спиртом, которые найдут в захоронении. И действительно, после работ мужики притащили три или четыре алюминиевых фляги, наполненные не потерявшим своих качеств спиртом. В общей сложности, согласно данным архива Лужского РВК, из захоронений были перенесены останки 35 человек.
На следующий день мы выехали из Петербурга в Молотки вместе с нашими коллегами — Андреем Конаковым из поискового отряда «МИФ» и Владимиром Аракчеевым из отряда «Пилигрим».
Доехав на машине до опушки леса, мы переоделись в рабочую одежду и двинулись в сторону урочища. День стоял солнечный, и окружающий лес выглядел приветливо. Бодрым шагом преодолев пять километров, мы прибыли на место около 11 часов утра, и, не теряя времени, приступили к работе. Первым делом было необходимо определиться с размерами захоронения, чтобы можно было вскрывать его по всей площади равномерно, а не кусок за куском.
Расчистив приблизительное место захоронения от стволов деревьев, мы еще раз попробовали пустить в дело щуп. Однако, как и следовало ожидать, за одну ночь грунт мягче не стал, поэтому от щупа было мало толку. Тогда, не мудрствуя лукаво, мы решили вскрывать всю поверхность локального углубления, первоначально принятую нами за бывшую дорожную канаву. Как оказалось позже, мы не ошиблись в своих расчетах.
Быстро перекидав верхний слой грунта, мы дошли до слоя, в котором начинались останки. После этого каждый взял себе участок для работы и приступил к планомерному тщательному перебору грунта. Первоначально у всех нас было твердое намерение произвести эксгумацию этого захоронения с применением археологического способа, однако нам пришлось внести некоторые коррективы в свои планы.
Дело в том, что, согласно воспоминаниям местного жителя, захоронение проводилось уже весной, когда трупы погибших оттаяли из-под снега. Часть из них, скорее всего, выловили из речки. Поэтому неудивительно, что тела перед захоронением были пересыпаны хлорной известью, обусловившей плохую сохранность костных останков. Из-за этого все останки пришлось сразу извлекать из земли. Правда, необходимо отметить, что в таком «позднем» захоронении был и свой плюс. Из-за этого погребаемых солдат никто не обыскивал, и теперь у нас появилась возможность установить их личности благодаря личным предметам, оставленным при них.
И действительно, в ходе эксгумации было обнаружено 9 подписанных предметов, на которых в основном, были нанесены инициалы. Однако, в связи с тем, что мы очень точно знали и дату гибели солдат, и подразделение, в котором они служили, даже неполных инициалов было достаточно для того, чтобы с большой долей вероятности идентифицировать личности убитых.
Во время эксгумации Андреем у одного из погибших был обнаружен бумажник, в котором находились частично сохранившиеся бумажные документы, в том числе удостоверение к медали «За оборону Ленинграда», письмо со штампом полевой почты 75 681 (возможно, 75 687), датированное 6.5.43, а также квитанция о приеме паспорта, выданная Фрунзенским Р.В.К. В бумажнике кроме документов находилась медаль «За оборону Ленинграда». Обнаруженные фрагменты документов были на следующий день переданы нами на экспертизу в Федеральный центр консервации библиотечных фондов, имеющий большой опыт работы со старыми бумажными носителями, в том числе извлеченными из земли. Однако, уже по частичным данным, которые удалось сразу же прочитать в обнаруженных документах, было установлено, что они принадлежали красноармейцу 255-го стрелкового полка Захарову Сергею Захаровичу 1900 года рождения, призванному на службу Фрунзенским РВК города Ленинграда 2 апреля 1942 года и числящемуся в документах полка пропавшим без вести 10 февраля 1944 года.
Читать дальше