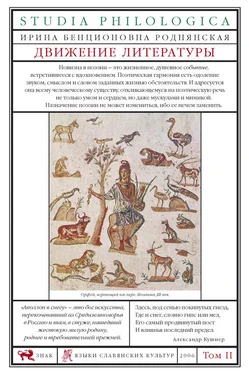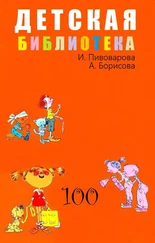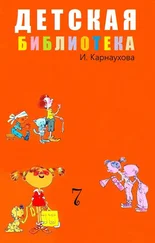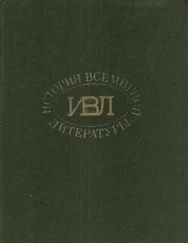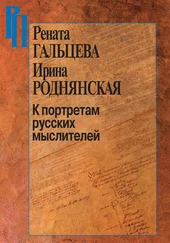«… не ужасно ли и не обидно было бы думать, что Моисей входил на Синай…» и т. п.
Позволю себе экскурс по поводу одного из таких мест, вокруг «слезинки ребенка» (с. 377): «… она поколеблет картину вечной гармонии так, что писателю до сих пор с нами не объясниться…» Колебание же невыносимое – близ довода «о невозможности принесения в “строительную жертву” одного человеческого существа». С. Ломинадзе уже полемизировал на этой территории с К. Степаняном, приписывая аргумент от «детской слезинки» глубочайшему мирочувствию самого Достоевского и отметая замечание А. Василевского, что мысль из главы «Бунт» идет все-таки от персонажа, а не от автора «Братьев Карамазовых». Бочаров осторожно солидаризуется с Ломинадзе. Тут, по-моему, наряду с натуральным этическим порывом еще и какое-то тягостное недоразумение, во всяком случае, среди людей, чтущих, по-видимому, Евангелие. Словосочетание «строительная жертва» взято Бочаровым из одной работы В. Е. Ветловской, где Ивану Карамазову с большим или меньшим успехом приписывается кардинальная причастность к масонству и его эзотерической символике. Но если отвлечься от этой символики, травестирующей всечеловеческие архетипы, и от самого диагноза, выставленного Ивану, нужно со всей силой сказать, что для верующего ума (в том числе для ветхозаветного и языческого) на жертве стоит все мироздание (отсюда и гекатомбы, и всесожжения, и даже человеческие жертвоприношения – все то совсем не пустое и не суеверное, все то всеобщее мифодействие, от чего освободил человечество Христос). А сам Христос – именно что «строительная жертва»: Камень, который отвергли строители, стал во главу угла – нового соборного вселенского здания Церкви. И Он же – жертва искупительная. Потому-то на слова Ивана Алеша отвечает напоминанием о Едином Безгрешном (так что на «диалектику» Ивана откликается не только «космодицея Зосимы», но и прямой Алешин возглас). Больше того, Церковь сакрализует не только добровольную жертву – Христа и его последователей, но и жертву, не связанную с волеизъявлением: канонизированы изничтоженные Иродом в Вифлееме еврейские младенцы – как принявшие смерть Христа ради. И вообще, в круговой поруке общей вины невинные гибнут за виновных. Достоевский ли об этом не знал? Все это не противоречит нравственной невозможности устраивать свое счастье на несчастье другого (Татьяниного мужа в Пушкинской речи Достоевского, на которую в этой связи ссылаются и Ломинадзе, и Бочаров) и не оправдывает притязания новых иродов основывать сулимое в будущем благоденствие на погублении ныне живущих. Невинно погубленные и ироды окажутся по правую и по левую сторону престола Господня. Можно, конечно, посчитать эту «экзистенциальную метафизику» просто эквилибристикой фарисействующих умов, но тогда уж надо до конца оставаться с Иваном Карамазовым во всем. Бунтовать так бунтовать. (Кстати, мне кажется, Достоевский, вопреки мнению Бочарова, любит Ивана Карамазова не меньше, чем Раскольникова. Любит, но делает иной выбор .)
Иногда эти «промежутки» представлены, на мой взгляд, слишком уж «бледными», как у других, наоборот, бывают слишком картинны искусственные интерпретации… Для моего грубого ума не составляет такой уж загадки, отчего в «Станционном смотрителе» Дуня, по доброй воле увозимая из отцовского дома, плачет в кибитке; она оплакивает трагическое неведение отца, добродушно подтолкнувшего ее к окончательному решению: дескать, прокатись, чего боишься? – оплакивает и свою внезапную решимость, отягощенную виной. Загадочности здесь не больше, чем в пресловутой реплике доктора Астрова насчет «жарищи в Африке» – а вот понятие «подтекста» не стоило бы так резко отвергать.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу