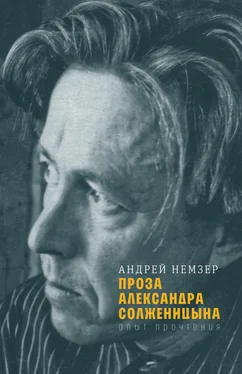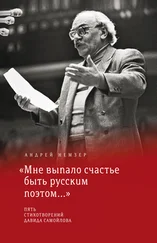…За окнами уже совсем стемнело. Я тоже (бессознательное самоотождествление рассказчика с убежавшей «за всеми» Матрёной. – А. Н. ) влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.
Прошёл час, другой. И третий. Матрёна не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.
И ещё прошёл час. И ещё ‹…›
Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась.
(138)
Игнатьич, несомненно, не спал – он придумал объяснение отсутствию Матрёны, обратил внимание на непривычную тишину и повышенную активность бегающих под обоями мышей, не включил (то есть сознательно не стал включать!) приёмник. От чего же он в таком случае очнулся? В странное забытье, позволившее не тревожиться о пропаже Матрёны, его должна была ввергнуть без помех идущая работа над «своим», но не проверка домашних заданий. Игнатьич «пишет своё», не зная, что в это время происходит то, что станет для него по-настоящему «своим», не отпускающим, требующим спасения от забвения – воплощения в слове. Этот парадокс сопряжен с постепенным приближением рассказчика к личности, судьбе, тайне Матрёны, с первой встречи ему полюбившейся, но долго не открывающейся вполне. Формально Игнатьича невозможно укорить как за равнодушие к Матрёне в ее последние часы, так и за запоздалое понимание ее сути, но для него самого эти ошибки крепко связаны и совокупно отзываются чувством вины. Потому и возникает в концовке рассказа местоимение первого лица, относящееся не только к тальновцам и проглядевшим других Матрён читателям, но и к рассказчику (в его обыденной ипостаси):
Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша.
(148)
Таким образом финал дописанного (одолевшего, казалось бы, неизбежное забвение) рассказа перекликается с его зачином: поведать о русской праведнице (и тем самым сохранить ее праведность) дано только русскому писателю.
Отсюда неожиданная литературность рассказа, заявленная уже таинственной «увертюрой», строй и композиционная роль которой совершенно несхожи с начальными фрагментами других рассказов Солженицына конца 1950 – начала 1960-х гг. Читатель «Одного дня Ивана Денисовича» сразу же вводится в какое-то неведомое, но, без сомнения, страшное пространство: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём – молотком об рельс у штабного барака» (15). Никаких предисловий и подводок здесь быть не может, лагерные реалии возникают раньше, чем прямое указание на место действия, фамилию главного героя мы узнаем до того, как он как-то себя проявит. Тот же прием немедленного погружения в реальность (конкретные черты которой будут представлены позднее) употреблен в рассказах «Случай на станции Кочетовка» и «Для пользы дела», закономерно открывающихся репликами еще не названных персонажей: «Алё, это диспетчер?»; «…Ну, кто тут меня?.. Здравствуйте, ребятки! Кого еще не видела – здравствуйте, здравствуйте!» (159, 210). Отождествить Ивана Денисовича с автором «Одного дня…» мог только очень простодушный читатель. Читатель, сколь угодно изощренный (посвященный в тонкости литературной теории, прекрасно знающий о дистанции меж собственно автором и нарратором), должен был угадать в рассказчике «Матрёнина двора» писателя (насколько это в принципе возможно – близкого реальному автору). Писатель этот предстает законным наследником той великой литературы, что некогда открыла (как теперь Игнатьич – Матрёну) особую стать русского мира, русского человека и русской истории.
Путь Игнатьича к пониманию Матрёны не менее важен, чем открывающаяся в финале человеческая суть героини. Металитературность «Матрёнина двора» (кроме прочего, это рассказ о том, как складывался рассказ) глубоко укоренена в национальной литературной традиции (начиная с «Бедной Лизы», «Евгения Онегина» и «Мертвых душ»). Рассказываться такая история может только на том языке, что был – во всем своем разнообразии – сформирован традицией, но оказался в новой социальной реальности чужим, погребенным в прошлом, дозволенным в хрестоматиях, но ненужным для современной литературы. Солженицын сложным образом восстанавливает этот язык в правах – отсюда густота и значимость литературных реминисценций, по-разному корреспондирующих со своими источниками, явленных с разной мерой отчетливости (иные должны распознаваться читателем, иные – одаривать беглыми ассоциациями), но неотъемлемо входящих в поэтическую ткань рассказа. Некоторые отсылки к русской классике прежде не фиксировались, другие были отмечены исследователями, но получили неполные или неточные истолкования, что, на мой взгляд, связано с установкой на интерпретацию отдельных реминисценций, складывающихся у Солженицына в сложную систему, ориентированную на «целое» русской словесности.
Читать дальше