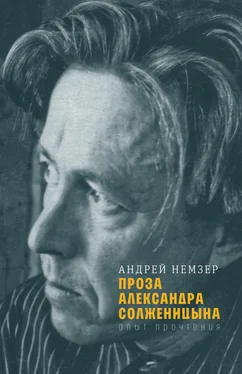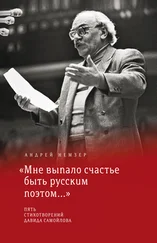Что же до «опыта художественного исследования», то здесь считаю должным процитировать главку из Пятого Дополнения – «Невидимки» – «очерков литературной жизни», посвященную Мире Геннадьевне Петровой, главному и любимому «литературному собеседнику» Солженицына в 60-е годы, незаурядному текстологу, историку и ценителю словесности [2] Тщанием М. Г. Петровой подготовлено удивительное издание: Солженицын Александр. В Круге первом: Роман. М.: Наука, 2006 (серия «Литературные памятники»).
:
…изо всех моих книг к единственной она не прикоснулась сотрудничеством, – я её не прикоснул, и не просилась она: к «Архипелагу». В том жёстком самодвижении нашей истории и её неленивым рукам было не к чему прикоснуться. И когда все три тома я принёс ей на пять дней прочесть – она, единственно только об этой книге, не сказала мне ни слова. Потому что эта книга сделалась сама – не в мастерских искусства, не вспоминая ни единого завета его, не соотносясь ни с единым правилом.
(XXVIII, 494)
Эти строки «Телёнка» обожгли меня при первом чтении. Буквально вошли в душу. Потому даже в лекциях я «Архипелаг» цитирую довольно обильно, но почти не комментирую. Нет, я вовсе не считаю, что литературоведам заказано анализировать «опыт художественного исследования», – об этой книге уже написаны глубокие работы, и, надо надеяться, число их будет прирастать. У меня пока не получается. Хотя все, что я писал о Солженицыне и говорил о нем на занятиях со студентами, просвечено сердцевинным, по моему разумению, поэтическим тезисом «Архипелага» (Часть четвертая. «Душа и колючая проволока». Глава 1. «Восхождение» – почти точный центр повествования в семи частях):
Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как – добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями – она проходит через каждое человеческое сердце – и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце – неискоренённый уголок зла.
С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.
С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах – и носителей добра), – само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство.
(V, 495–496)
Приведя одну цитату, чувствую, что здесь необходима и другая – из зачина Нобелевской лекции:
…вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей, – слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.
Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Ещё в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: зачем нам этот дар? как обращаться с ним?
И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживёт свои формы, умрёт. Умрём – мы, а оно – останется. И еще поймем ли мы до нашей гибели все стороны и все назначенья его?
Не всё – называется. Иное влечёт дальше слов. Искусство растепляет даже захоложенную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, – такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.
Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь – не себя, – увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает… [3] Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 8–9.
Для меня эти фрагменты «опыта художественного исследования» и Нобелевской лекции неразрывно связаны. Почему? Ответом (разумеется, приблизительным) мне видится эта книга – книга о писателе, неуклонно верившем в единство Правды и Поэзии, а потому – в будущее искусства, в частности – русской литературы.
Читать дальше