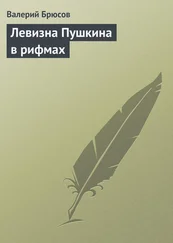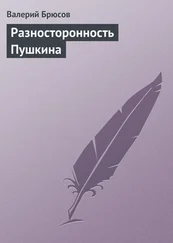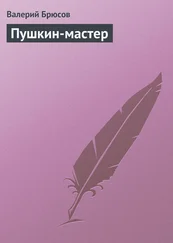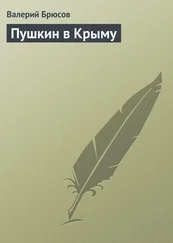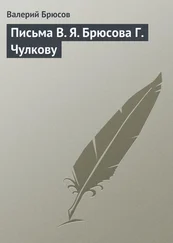Если сопоставить с этим, что «Медный Всадник» (при всей глубине идеи, положенной в его основание) в то же время является вообще замечательнейшим созданием Пушкина по совершенству стиха, придется признать повесть венцом всех созданий великого поэта. Нигде в другом произведении Пушкина четырехстопный ямб не движется так разнообразно и так свободно, как именно в «Медном Всаднике». Нигде поэт не пользуется с большим искусством цезурами, придавая ими совершенно неожиданное движение стиху. Нигде у Пушкина рифмы не звучат так естественно и вместе с тем не способствуют в такой мере яркости образов и картин, как в «петербургской повести». Наконец, именно в стихах «Медного Всадника» Пушкин вполне раскрывает свое искусство живописать звуками: словесная инструментовка достигает здесь того идеала, о котором только мечтают поэты наших дней. Можно сказать, что в «Медном Всаднике», как и в других стихотворениях последних лет жизни, Пушкин достиг вершин своей стихотворной техники и дал еще не превзойденные образцы русской стихотворной речи вообще.
1915
Предлагаемая статья лишь намечает вопросы изучения стихотворной техники Пушкина. При почти полном отсутствии всяких предварительных исследований и статистических подсчетов, всестороннее рассмотрение стиха Пушкина еще невозможно. Наиболее ценными разысканиями в данной области остаются: статья Ф. Е. Корша «Разбор вопроса о подлинности окончания „Русалки“» (СПб., 1893) и книга Андрея Белого «Символизм» (М., 1910), к которым мы и отсылаем читателей за некоторыми подробностями. Что касается технических терминов, встречающихся в нашей статье, то, в случае надобности, объяснение их читатели найдут в книге Н. Н. Шульговского «Теория и практика поэтического творчества» (СПб., 1914). Нам остается добавить, что наши примеры взяты преимущественно из лирики Пушкина, в которой наиболее ярко выразились ритмические особенности его стиха.
Или, наконец, как выделенную в особый стих часть последней стопы. Ср. у Тютчева:
В ночи лазурной почивает – Рим.
Взошла луна и овладела – им.
Впрочем, два стиха припева:
можно рассматривать, как части одного двухстопного стиха с внутренней рифмой, лишь для удобства читателей печатаемые как две отдельные строки.
Основной размер этого чернового наброска, несомненно, 5-стопный хорей; поэтому текст всех изданий подлежит различным исправлениям (например, ст. 20 должно читать: «С морды каплет кровяная пена…»).
См. «Символизм» А. Белого, стр. 422.
См. «Символизм» А. Белого, стр. 396 и сл.
Другие примеры см. у Ф. Е. Корша, op. cit.
Другие примеры см. у Ф. Е. Корша, op. cit.
Анакрусу в амфибрахии охотно допускал Лермонтов. См., папример, его стихотворение «Русалка плыла по реке голубой…»
См. исследование П. Д. Голохвастова «Законы стиха» СПб., 1883.
Значительный список таких рифм (однако не исчерпывающий) см. у Ф. Е. Корша, op. cit, стр. 18.
Таким образом, четырехсложные рифмы не являются изобретением нового времени. После Пушкина ими пользовался Я. Полонский в стихотворении «Старая няня». Лишь после этого такие рифмы были разработаны Ф. Сологубом, В. Пястом, пишущим эти строки и др.
См., например:
Но к р асоты в оспоминанье
Нам се р дце тр огает т айком, –
И ст рок н ебрежных н ачер т анье
В ношу смиренно в ваш альбом.
Ав ось на па мять п оневоле
П ридет в ам тот, кто в ас п евал
В те дни, как П ресненское п оле
Еще забор не заграждал.