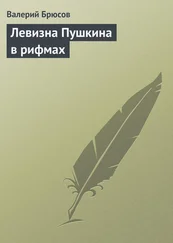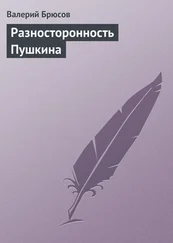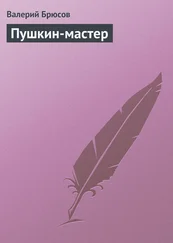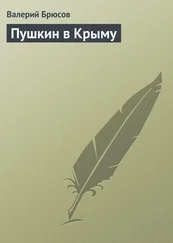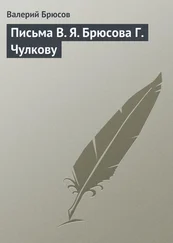Здесь особенно замечательны последние слова, дающие звуками всю иллюзию прибрежного шума вод: «говор волн». Не менее замечательно звуковое изображение начинающейся метели в «Бесах»:
М утно н ебо, н очь м утна…
В изгом ж алобным и в оем… и т. д.
Или изображение «Зимней дороги»:
Ск в озь в олнистые тум ан ы
Пробир а ется лу на,
На п еч ал ьные поляны
Льет пе ч ал ьный свет она…
В этой строфе и в следующих искусство пользоваться аллитерациями ради целей звукописи достигает совершенства. Едва ли не каждый звук, не каждая буква принята поэтом во внимание. Иного характера звукопись находим в стихах:
Оно умрет, как шум пе ч альный
Во лн ы, п л ес н увшей в берег да льн ый,
Как звук ночн ой в лес у глух о м.
Здесь аллитерации очень тонки: ш аллитерируется с ч, ой (под ударением) с о и т. п.
Одним из лучших примеров пушкинской звукописи может служить стихотворение «Обвал». Первая строфа своими повторными рифмами на лы дает сразу впечатление суровости и мрачности описываемой картины. Стих: «И роп щет бор » приближается к звукоподражанию. Одни мужские рифмы стихотворения усиливают общее впечатление. Только 5-ый стих, изображающий «волнистую мглу», своими мягкими аллитерациями на л несколько смягчает его: «И б л ещут средь во л нистой мг л ы». Во второй строфе падение обвала передано накоплением согласных: «И с тяжким гро хотом упал». Короткие стихи «Загородил», «Остановил» своими пиррихиями дают впечатление мгновенности явления. Напротив, те же короткие стихи в третьей строфе, разделенные на две самостоятельных стопы, «Прошиб снега», «Свои брега», дают впечатление удали, свирепости Терека, широты разлива. Заключение четвертой строфы рисует звуками ту «пыль вод», которой Терек «орошал ледяный свод»: «И ш ум н ой пе н ой оро ш ал». Наконец, последняя строфа каждым своим стихом рисует разнообразнейшие картины. «И п уть по нем широкий шел» – аллитерациями на п и на ш и своими цезурами изображает самый путь. В стихе «И конь скакал и влекся вол» различием аллитераций на к и на в передана разница между быстрым скаканием коня и медленными движениями вола. Та же медлительность движений верблюда в следующем стихе передана также аллитерацией на в: «И с в оего в ерблюда в ел». Два последних стиха своей связностью, своими цезурами, выбором полногласного слова «Эол» и полурифмами: «небе с – жилец » дают впечатление небесного простора:
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец!
«Медный Всадник» – одна сплошная звукопись. Следовало бы выписать каждый стих повести, чтобы раскрыть богатство звуковых сочетаний и звуковой изобразительности, скрытой в ней. Не будем уже говорить о поразительном, по звукописи, изображении скачки Медного Всадника по потрясенной мостовой:
Как будто гр ома гр охотанье,
Тяжело-звонкое скак анье
По пот рясенной мо ст овой…
И озарен л у но ю б л ед н ой,
Пр осторши р уку в в ышине,
За н им н е с ется Вса д ник Ме д ный
На зво нк о- ск ачущем к о н е…
И во в сю ночь, б езумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повс юду Всадник Медный
С т яжелым т опо т ом скакал…
Но и помимо этого знаменитого места, каждый образ, каждая мысль, каждая картина повести находит свое полное выражение в самых звуках стиха. Мы встречаем здесь богатые аллитерации: « ст рогий, ст ройный вид», «прозрачный сумрак, блеск безлунный», «и блеск, и шум, и гов ор бало в », « ст ояли ст огны озерами» и т. п.; аллитерации более глубокие: «с р азбега стекла б ьют ко р мой», «как в етер, буйно завывая», «дождь капал, ветер выл уныло», « п лескал на п ристань; роп ща п ени», «а в сем коне какой огонь», «уздой железной» и т. д. Находим наряду с аллитерациями почти звукоподражания, как, например, « тв оей тв ер ды ни дым и гром » или эти изумительные строки:
Ши пенье пен истых бокалов
И п унша пл амень голубой.
Читать дальше