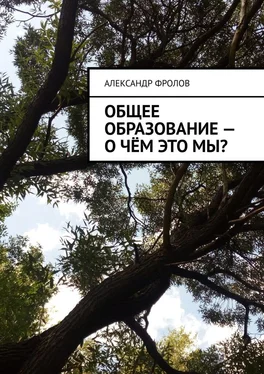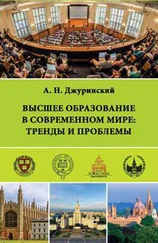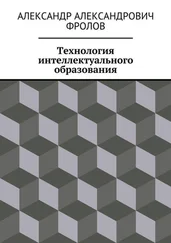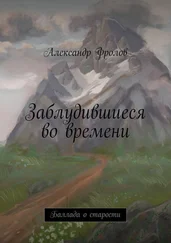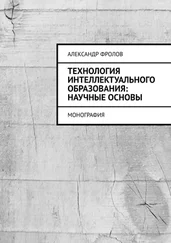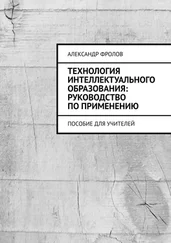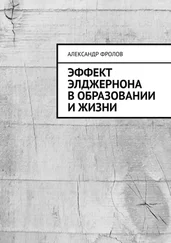Развитие знаковых систем описания мира, формализуемых на уровне общепринятых и общеобязательных с самого начала общего образования, приводит к формированию универсального инструмента исследования мира. И если язык как средство общения людей в знаковой форме (язык математики и языки народов мира) в своей сущности и в процессе образовательной трансляции может и должен быть жестко формализован и универсален для всех, то литература всех жанров делает этот инструмент индивидуально-личностным и потому уникальным. Поэтому читать надо: развитие инструментального обеспечения исследования мира сопровождает «объектную линию» формирования моделей на всем протяжении общего образования.
Итак, сущность общего образования: оно является способом обучения формированию адекватных действительности моделей явлений. Отсюда следует необходимость универсальности структуры общего образования в целом и программ наполнения его предметного содержания для всех обучающихся вне зависимости от индивидуальных особенностей личности. И вне зависимости от того, «нравится» или «не нравится» по каким-то причинам конкретный предмет ребёнку изначально. Ведь для того, чтобы сформировать отношение к чему-либо, надо это что-либо потрогать, не правда ли? Вот программа общего образования и обеспечивает это трогание. Индивидуальность же обучающихся проявляется в личностных особенностях восприятия конкретных фрагментов содержания предметов образования. Как уже упоминалось: кто в цветовых, кто в звуковых ассоциациях, кто… В общем, кто во что горазд. Но трогает мир ручонками всех предметов. Возникающие в результате предметного образования и иных влияний сугубо личностные интересы и увлечения должны формироваться и развиваться за пределами общего образования – например, в рамках дополнительного образования и самообразования.
Сплошь и рядом в общении с учащимися (особенно – после начальной школы) приходится сталкиваться с заявлениями о негативном отношении к математике (ну, и подавно – к физике). Почти все не любят эти предметы. А еще не любят: русский язык, географию, биологию, историю, физическую культуру, информатику, иностранный язык – что там еще? Всё не любят. Спрашиваешь почему – «не моё это», «слишком трудно», «слишком сложно» и т. д. А вот на вопрос: «Что это такое?» (например, математика) разумного ответа дождаться практически невозможно. Проводили мы простое исследование: учащимся 10—11 классов продвинутых школ и гимназий города Екатеринбурга задавали вопрос: «Что такое математика?». Ответы очень обнадеживали. Один из ста человек дал вполне приемлемый ответ. Потом выяснилось, что он ранее проходил обучение в Центре «Одарённость и технологии» у одной моей сотрудницы. Примерно двадцать человек дали ответы типа: «Это наука про числа и расчеты» (часто с уточнением: «Чтобы сдачу правильно получать»). А остальные восемьдесят практически единогласно сообщили, что «математика – это когда цифры». Не говоря уже о том, что, согласно учебнику для соответствующих специалистов, оборот «математика – это когда» (путаница пространства и времени) свидетельствует о задержке умственного развития, про цифры – это уже, пожалуй, слишком. Ведь цифры – это просто знаки, и нечего их изучать, тем более – одиннадцать лет. То есть, не знают дети, что такое математика. Но не любят. И про сущность всех остальных предметов не знают. Но не любят.
В связи с этим я постоянно вспоминаю историю из своей юности.
С детства я люто ненавидел одно блюдо. И уходил из дома (благо было куда – в большой сад), когда его готовили, чтобы не доносился до меня этот отвратительный запах. Иногда не мог сдержать рвоты. Мудрые взрослые как-то мирились с этим. Время шло. Я дорос до тринадцати с лишним лет и уже вполне осознанно и усиленно занимался наукой. И у меня даже были два научных руководителя в Академии наук Казахстана, где мы тогда жили. Один из них – известный герпетолог Константин Петрович Параскив, 100-летие со дня рождения которого недавно отмечала зоологическая общественность. Я его, естественно, очень уважал и почитал. И вот раз прихожу я с гор, где провел почти весь жаркий летний день, с интересными змеями в мешке и сразу – к Константину Петровичу. Жил он в центре города (ныне – Алматы), и тогда там еще были небольшие частные домостроения. Он с искренней радостью встретил меня, отправил в летний душ во дворе и спросил, хочу ли я есть. То есть, пригласил к обеду, который явно намечался в увитой хмелем беседке. Естественно, мой молодой голодный организм торжествовал. Тут тебе все – и почесть, и утоление голода, и отдых от долгой беготни по горам. Сижу я в беседке перед чистой тарелкой, и вплывает в беседку жена Константина Петровича с блюдом этих отвратительных, мерзких фаршированных перчиков. Представляете мое состояние и его безвыходность? Не смея обидеть уважаемого мной человека, я собрал в кулак всю волю, какую только нашел, зажмурил глаза и услышал, как на мою тарелку шлепнулись один за другим два. Что там перчика – перца! Здоровенных и оттого особенно противных. И, что делать, начал. Пришел в себя только тогда, когда второй раз попросил добавки. Дело в том, что до сих пор я ненавистные перчики ни разу не пробовал. Просто ненавидел – и все.
Читать дальше