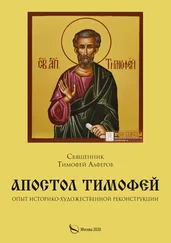Примечательно, что эта критика человеческой способности суждения и познания корреспондирует с восклицанием рассказчика/лектора в отношении манихейского мифа («Как мало мы имеем права смеяться над верованиями древнего человечества!»). Фактически безымянный протагонист в своем светящемся облике напоминает бога света Ахуру Мазду, и рассказчик усиливает этот параллелизм, «научно» обосновывая свечение своего влюбленного друга.
Сам сын света, весь сотворенный из света, как и каждый из нас, он отдавал теперь свою душу другому человеку, в него входило что-то другое и вытесняло старую душу-свет. <���…> В первый раз человек полюбил другого человека; и другой ясный и мучительный мир вонзился в этот – и завязалась короткая радостная борьба между любовью и жизнью. Жизнь есть свет в физическом смысле, и этот свет уходил из моего друга, чтобы могло в него войти другое 291 291 Платонов А. Невозможное. C. 194.
.
Так достигается подключение любовной поэтики к мифопоэтике: «Зависимость любви от времени делает возможным нарративную обработку темы, рассказ о „любовных историях“ и тем самым „функционально-специфическую замену мифов“» 292 292 Luhmann N. Liebe als Passion. S. 97.
.
Обусловленное любовью свечение, однако, равносильно (в понимании рассказчика) уничтожению мира света, темный опыт любви влечет за собой опыт смерти. В понимании же протагониста его смерть обусловливает не любовь, а нерепрезентируемость любовного опыта – невозможное , тематизированное в диалоге рассказчика и героя после посещения Марии.
– Что с тобой? – спросил я у него.
– Я люблю, – сказал он тихо. – Но я знаю – чего хочу, то невозможно тут, и сердце мое не выдержит. <���…>
– Чего же ты хочешь?
– О, знаю, – ее хочу! Но не такую. Я не дотронусь до нее. Ни губы, ни груди мне не нужны. Я хочу поцеловать ее душу… Нет, тут ничего невозможно. Этого нельзя сказать. Слово сделано для удобства. Я не знаю, как сказать, и никто никогда ничего про это не скажет ни словом, ни музыкой, ни песней. Это можно иметь, но нельзя об этом рассказать 293 293 Платонов А. Невозможное. C. 194–195.
.
После этого финального озарения, придя к себе домой, безымянный герой истории ложится и умирает: «Любовь обняла в нем жизнь и задушила ее» 294 294 Там же. C. 195.
. Эрос и Танатос, история жизни и история страдания оказались взаимно дополнительны в отношении к «священной истории», которая «с евангельской краткостью и простотой» была заявлена в начале «Невозможного». Никлас Луман в своей книге не эксплицирует отношение любовной страсти к страстям Христовым, но подразумевает его 295 295 «С появлением парадоксальности изменяется и семантическая позиция (равно как и религиозная интерпретируемость) страдания в любви. Человек страдает не потому, что любовь чувственна и будит земное вожделение; он страдает, потому что она еще не исполнилась или потому что в исполнении не сдерживает того, что обещает. На место иерархии мироотношения человека заступает автономия и структура времени автономной области жизни и опыта. Обоснование из себя самого, включающее страдания, прежде было характерной прерогативой бога». – Luhmann N. Liebe als Passion. S. 80.
. Решающей для Лумана является фундаментальная разница между идеалом amour passion , связанным со старым, «пассивным» понятием страдания как «претерпевания впечатления» 296 296 Ibid. S. 74.
, и парадоксальностью, связанной с современным, «активным» понятием страдания как «страстного действия». Только сплавление активного и пассивного понятий страсти делает возможным индивидуализированную, романтическую любовь, «ибо только действие, не претерпевание, можно считать индивидуальным» 297 297 Ibid. S. 75.
.
Протагонист «Невозможного» предается именно домодернистскому пассивному понятию страсти, понимая любовь как недостижимый, невозможный идеал, отчего и погибает, тогда как Мария репрезентирует романтический любовный код (поэтому она также единственная фигура, наделенная индивидуальным именем). Можно сказать, что безымянный протагонист действует как носитель актуального для самого Платонова в 1920–1921 годах идеала преодоления «буржуазного пола» и тем самым привязан к добуржуазному, доромантическому и антисексуальному любовному коду, поскольку «лишь романтизм освящает взаимосвязь сексуальности и любви, и лишь XIX век завершает мысль, что любовь есть не более чем символизация полового инстинкта» 298 298 Ibid. S. 53.
. Рассказчик же в своем понимании любви тоже доромантичен, однако в основе его взгляда лежит уже новое понятие активной страсти, понятие любви как парадокса: любовь хотя и невозможна, но неизбежна.
Читать дальше